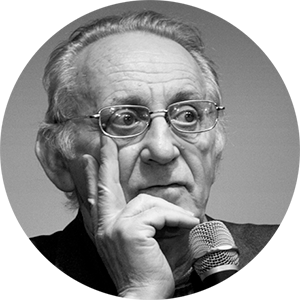литература и кинематограф что общего
Литература и кинематограф что общего
«С полотен картин, со сцены театров, с экранов кинематографов и со страниц книг искусство разговаривает с нами. Не будем глухими, постараемся понимать его язык»
[Лотман М. Ю. «Как говорит искусство?»]
1. Установка на восприятие языка кино и языка литературы.
Как вы думаете, литература и кино близки друг другу? Чем? Чем различаются язык кино и язык литературы? Если бы вы задумали снять фильм по какому-нибудь произведению, как бы вы это сделали?
2. Тема «Язык кино и язык литературы».
Искусство кино — это искусство изображения, тогда как литература — искусство слова [слайд 4]. В кино слово также важно и значимо, но не оно является главным — происходит сдвиг в сторону показа. «Достоинство кинематографа (вслед за фотографией) состоит в том, что он “улавливает на лету” явления материального мира» [Интерпретация текстов искусства 2011:109]. Немецкий исследователь кино З. Кракауэр заметил: «Уличные толпы, непроизвольные жесты и др. мимолётные впечатления — для него самая подходящая пища. Знаменательно, что современники Люмьера хвалили его фильмы — первые киносъёмки в мире — за то, что они показывают “трепет листьев под дуновением ветра”» [Кракауэр 1974]. Приемы, используемые литературой и киноискусством, схожи во многих моментах, но выражаются в самом произведении искусства по-разному. Кино как сравнительно молодой вид искусства исследователи сравнивают с литературой, архитектурой, живописью, фотографией (из которой кино начало своё развитие), театром, музыкой, акцентируя внимание на совпадениях, однако чаще, конечно, на характерных различиях.
В Большой советской энциклопедии дается следующее определение киноискусства: «Род искусства, произведения которого создаются с помощью киносъёмки реальных, специально инсценированных или воссозданных средствами мультипликации событий действительности» [ Большая советская энциклопедия].
Видео YouTube
Парадокс кино [слайд 6], как отмечается в учебном пособии «Интерпретация текстов искусства» заключается в том, что «кинематограф, с одной стороны, самое реалистическое искусство» («Жизнь других эпох и народов, подводный мир океана, просторы вселенной — кинокамера помогает нам соприкоснуться с теми областями реальности, которые мы не можем (или могут далеко не все) воспринять в своем жизненном опыте» [Интерпретация текстов искусства 2011: 109]), а с другой стороны — «именно кино способно окунуть зрителя в мир сна, грёз, оживить мечты, увести от реальности. Неслучайно кинематограф в начале XX века называли “иллюзионом”, а первые кинотеатры в России — “Иллюзионами”» [Интерпретация текстов искусства 2011: 109]. Согласны ли вы с таким мнением?
— Как отмечается в учебном пособии «Интерпретация текстов искусства», «Особенность языка кино связана, во-первых, с фотографической природой кинематографа, во-вторых, с наличием движения и, в-третьих, с использованием особой техники, фиксирующей, обрабатывающей и воспроизводящей изображение» [Интерпретация текстов искусства 2011: 109].
Основной единицей киноязыка, по мнению Ю. М. Лотмана, является кадр, который несет в себе значения и смыслы. Именно в нем запечатлевается пространственно-временное изображение реальности [Лотман 1973]. А. Тарковский также придерживается этой точки зрения: «Всякое кино целиком заключено внутри кадра настолько, что, посмотрев лишь один кадр, можно, так мне думается, с уверенностью сказать, насколько талантлив человек, его снявший» [Тарковский 1990]. «Киноязык строится как механизм “рассказывания историй при помощи демонстрации движущихся картин” — он по природе повествователен» [Лотман 1973].
Принцип монтажа [слайд 9] является важной составляющей киноискусства. Как известно, «кинематограф — это прежде всего монтаж» [Эйзенштейн 1998]. Рассмотрим этот принцип более подробно. Как отмечается в учебном пособии «Интерпретация текстов искусства», «Монтаж — это не просто механическая “сборка” кадров, а творческий процесс, способ изложения сюжета в кинематографе. При помощи заранее обдуманного способа съёмки и порядка сочетания кадров, той или иной ритмической организации материала, монтажное изображение воздействует и на чувства зрителей» [Интерпретация текстов искусства 2011:112]. Как вы понимаете суть монтажа?
3. Понятие «литературная кинематографичность». Литературная кинематографичность разных жанров.
Чтобы сравнить текст романа и кино, нам нужно обратиться сначала к такому понятию как «литературная кинематографичность» [слайд 10]. Мы часто интуитивно определяем, что это произведение нужно и можно экранизировать, а как экранизировать другое произведение невозможно представить. Так вот, есть тексты с монтажной техникой композиции, т. е. такие тексты, в которых мы потенциально можем найти аналоги киноприёмов [слайд 11]. Посмотрите на слайд — И. Смирнов выделил в своей книге «Видеоряд» [Смирнов 2009] аналоги киноприёмов в тексте:
Если в тексте можно найти аналоги таких киноприёмов, значит можно говорить о том, что текст кинематографичен, т. е. его возможно экранизировать. Мы с вами убедимся в этом дальше.
Давайте посмотрим на определение литературной кинематографичности [слайд 12], которое дает И. А. Мартьянова: «это характеристика текста с преимущественно монтажной техникой композиции, в котором различными, но прежде всего композиционно-синтаксическими средствами изображается динамическая ситуация наблюдения. Вторичными признаками литературной кинематографичности являются слова лексико-семантической группы Кино, киноцитаты, фреймы киновосприятия, образы и аллюзии кинематографа, функционирующие в тексте. Кинематографичный тип текста подчеркнуто визуален в самом характере своего пунктуационно-графического оформления и членения» [Мартьянова 2003]. Это понятие сложное, однако давайте с вами постараемся разобраться. Как вы понимаете это понятие?
— И. А. Мартьянова в основе литературной кинематографичности видит монтажный принцип композиции, использование которого обусловлено стремлением автора динамизировать изображение наблюдаемого и руководить восприятием читателя-зрителя, «осуществить неожиданные перебросы в пространстве и времени, варьируя крупность плана, сжимая или растягивая время текста» [Мартьянова 2002].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что литературная кинематографичность выявляется в произведениях художественной литературы как с помощью сюжета, представления событий, так и с помощью собственно лингвистических средств, т. е. самого языка произведения. Поскольку речь идет о тексте, то для достижения цели используются, прежде всего, композиционно-синтаксические средства, т. е. построение произведения, композиция, и синтаксические средства выражения (тип повествования, построение предложений, абзацное членение и т. п.).
Конечно, литературная кинематографичность произведений разных родов литературы и разных жанров [слайд 13] неодинакова. Вы знаете, что литература условно делится на три рода — эпос, лирика и драма. Как вы думаете, произведения какого рода литературы более кинематографичны, т. е. более предрасположены к перенесению на экран?
— Кинематографический потенциал романа, рассказа, пьесы, конечно, будет отличаться. Это интересно проследить и исследовать, поэтому я выбрала произведения разных жанров: роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», рассказ «Дама с собачкой» А. П. Чехова и драму «Бесприданница» А. Н. Островского. Таким образом, мы с вами получим более полное представление о литературной кинематографичности разных жанров и о языке кино. Литературная кинематографичность лирики имеет наименьший потенциал реализации, поэтому лирические произведения не включены в наш курс. Как отмечает И. А. Мартьянова, «лирические жанры, архаичные и современные, не подвергаются киносценарной интерпретации, но их названия (сонет, элегия) могут использоваться в названиях сценариев или служить их подзаголовками (например, у А. Сокурова)» [Мартьянова 2011:171].
Однако стоит отметить, что язык поэзии и язык кино близки в некоторых моментах, в особенности — художественное использование детали, так называемый «сверхкрупный» план. Вспомним стихотворение А. А. Ахматовой «Песня последней встречи», где «боль разлуки с любимым человеком, растерянность героини показана при помощи предмета детали:
Литература и кинематограф что общего
Можно ли говорить, что российское кино литературно и основано на русском психологическом романе?
Русское кино не похоже само на себя в разные десятилетия. Кино дореволюционное было больше основано на театре — том самом, который переработал и включил в себя бульварный роман и мелодраму. В 1920-е годы авангардное кино (и не только авангардное), развивалось под влиянием мощнейшей визуальной культуры — новой живописи, фотографии, книжной графики, — в которой слово претворялось и преображалось. Даже Малевич, такой уж, казалось бы, абстрактный, слово божественное знал и в себя включал.
Наша культура действительно логоцентрична. Нас так воспитывали в школе: мы начинали со словесности, и словесность доминировала во время всего образовательного цикла. Нас приучали мерить кинематограф по литературе, причем по прозе, хотя поэзия, возможно, имеет к кино не меньшее отношение. Кино и делается у нас главным образом на сюжетном уровне, и в большинстве фильмов все решается в диалоге, все замкнуто на психологическом анализе, отношениях и личностных конфликтах. Это, безусловно, идет от литературы, что замечательно — с одной стороны, с другой же — большинство наших фильмов необязательно смотреть. Их можно слушать. Транслировать по радио.
Это радиотеатр с картинками — и если оператор талантлив (что случалось нередко), то получался радиотеатр с хорошими картинками. Сейчас, нужно сказать, новое российское кино начало терять ту силу слова, которая была в классическом кинематографе. Диалоги в советских фильмах чеканились. Не важно сейчас, были ли мы этим обязаны идеологической стороне дела или высококвалифицированным редакторам, которые служили на киностудиях, — главное, что работа над текстом была очень серьезной. Но, к сожалению, в 1990-е годы, после «Маленькой Веры», обыденный каждодневный язык начал вытеснять словесную выразительность. Достаточно сравнить диалоги у Райзмана, Панфилова, Ильи Авербаха, Алексея Германа и диалоги у режиссеров «перестроечного» времени, чтобы понять, как мы теряем в насыщенности и значимости слова. Даже молчание у Германа насыщенное — а в иных картинах последнего времени необязательная болтовня или эдакое «настроенческое» молчание, которое заполняется музыкой.
Силу слова мы начали терять. Что же приобретаем? Насколько я знаю, сейчас киношники все больше ориентируются на то, что называется интертейнмент (развлекательство), то есть на острый сюжет. Но острый и самодовлеющий сюжет, нужно сказать, никогда не был особенностью русской литературы. Начиная от Пушкина у нас всегда была ослабленная сюжетная линия.
Достоевский написал, казалось бы, остросюжетный роман…
В котором все построено на размыкании остросюжетной ситуации. Александр Сергеевич нарочито сдерживал себя в «Онегине». Он же мог этот сюжет сделать стремительным: ах, Онегин вдруг полюбил ту, которую отверг, а потом она его отвергла, хоть и любила! Но не про то роман. Пушкин надстраивает над сюжетной линией образный ряд «лирических отступлений», в которых развивается сложнейшая картина России перед восстанием тех, кого назовут декабристами. Разве не так поступает и Толстой в «Войне и мире»? Или Булгаков в «Белой гвардии», который, кстати, неслучайно опосредует приключенческую фабулу «Мастера и Маргариты» мифологической и историко-философской линией Иешуа Га-Ноцри!
У нас лучшие фильмы обычно не предполагали того стремительного развития фабулы, которое характерно для английского или, скажем, американского кино. «Застава Ильича» все время фабульно «сворачивается», замедляется. «Зеркало» Тарковского уходит в себя: автор уводит сюжет в разные стороны, провоцируя нашу рефлексию.
«Зеркало», режиссер Андрей Тарковский
Экшн — это сюжет, специально устроенный так, чтобы не рефлексировать. Он вбирает зрителя в себя и вертит его там. А русская традиция не такова — это обращенное к зрителю слово и направленный к нему образ, как в иконной «обратной перспективе», пришедшей к нам из Византии. У Эйзенштейна в «Монтаже аттракционов» есть потрясающая формулировка, исходная позиция, сохранившаяся на всю его жизнь: «Истинным материалом театра является зритель». Не сюжет, не психология, не зрелище, не декорация, а зритель, к которому все и направлено. Я запоздало попал в Стамбул, в Айю-Софию, но там эта мысль — одна из существенных — дошла до осознания наглядно и остро. Я увидел Одигитрию, которая летит сверху, из соборного свода, прямо к тебе и для тебя. И все пространство собора будто эхо того мира, который приходит к тебе, стоящему в центре этого мира. В общем-то, со времен оных это подспудный закон нашего высокого искусства. Пушкин все время обращается к нам, включая нас в текст, — «достопочтенный мой читатель. », «любезный мой читатель». Зачем ему это нужно? Одна из разгадок — в финале «Евгения Онегина»: «Кто б ни был ты, о мой читатель, Друг, недруг, я хочу с тобой Расстаться нынче как приятель…» (об «обращенном слове» у него писал замечательный нижегородский филолог Всеволод Алексеевич Грехнёв). У Пушкина «пространственная перспектива», направленная от автора к читателю, сопряжена с этикой взаимоотношений их как равноправных сторон, при том что автор не скрывает ни своего права следовать только свободно выбранной «тенденции», ни своего отказа от требования толпы к искусству «развлекать и увлекать». Боюсь, что наша нынешняя литература, равно как и наш кинематограф, пытается нас прежде всего завлечь «внутрь» и завертеть там до одурения. И тогда уж никакого медленного чтения и медленного смотрения не получится, да и не нужно.
В российской культуре очень существенна традиция обращенного слова. Безусловно, проповедническая тенденция идет вовсе не только от церкви или от большевиков. Наивно говорить, что большевики превратили все искусство в пропаганду. И пропаганда по сути своей противоположна проповеди, ибо этическая проповедь предполагается основанной не на лжи, а на стремлении нести истину, добро, милосердие (вспомним хоть пушкинский «Памятник»). У нас были «Слово о полку Игореве», «Житие» протопопа Аввакума, «Былое и думы» Герцена, «Воскресение» Льва Толстого… Все эти, очень разные, произведения объединяются именно «обращенным словом», убеждающим читателя в своей правде. И кино в советское время бывало проповедническим, а не только пропагандистским. Оно действительно пыталось воспитывать. Причем бескорыстно. Тот же самый Вертов совершенно не ради, пардон, финансового успеха или карьеры это все делал. Когда он титрами фильма «Шестая часть мира» говорил зрителю «ты хозяин своей страны», он не «приспосабливался к господствующей идеологии большевиков», а искренне пытался сделать из верноподданного обывателя свободного гражданина. Сейчас у нас рекламное кино. Оно рекламирует определенный мифологический образ жизни (спорт, космос и пр.). Это не идеология, это реклама. А реклама (хотя у них есть формальная родственность) также противоположна проповеди.
То есть наш кинематограф пытается быть похожим на успешный западный кинематограф, но стоит на совершенно другом базисе?
Дело в том, что кино наше не может прорваться на мировой экран подражательными фильмами. Зачем миру квази-Голливуд, когда есть настоящий? В массовом прокате с успехом идут «болливудские» фильмы из Индии, подражательные китайские и тайваньские картины, но главным образом в Юго-Восточной Азии, а в Европу и в США пробиваются лишь очень красивые «экзотические» — сказочно-исторические и мифологические блокбастеры. Мы же хотим победить Голливуд на его территории! Старая сталинская идея — ни одной пяди своей земли не отдадим, мы на их земле повоюем. Не получается, и не должно получаться. Почему в мире сейчас (не в широком прокате, конечно, но в молодежных аудиториях) популярен Эйзенштейн? Это не какие-то мои выдумки, сейчас действительно началось что-то вроде третьей, уже мифологической, жизни Эйзенштейна. Его фильмы совершенно по-другому смотрятся в этих аудиториях: они выигрывают именно своей непохожестью на то, что Голливуд предлагает как закон смотрения. Я могу сказать то же самое про Одзу, которого вдруг стали успешно показывать — даже иногда в коммерческих кинотеатрах. И это не какие-нибудь маргиналы смотрят «медленное» японское кино. В большом кинотеатре на 540 мест почти полный зал — 500 человек завороженно смотрят «Токийскую историю» Ясудзиро Одзу.
А литературен ли Голливуд? У нас каждый режиссер, который хочет снимать клип, берется за Макки — по крайней мере, одну книжку он точно читает. Уже вряд ли читает Проппа. Но экшен, американская традиция, — она ведь тоже книжная и литературная. Возможно, опирается на мюзиклы, на традицию бродвейского поющегося стиха.
Не только. Там есть и очень серьезные социальные фильмы, которые наследуют американской социальной литературе. В американском кино довольно много морально-этической проблематики (по крайней мере, у нас ее так называют) — и это чаще всего от литературы. С 1920-х годов до нашего времени голливудские компании — а теперь уже и американские сериальные платформы — покупают права на каждый вышедший роман, который более-менее имеет успех. Американское кино действительно очень литературное. Но при этом мы пытаемся сделать американское кино, минуя литературную традицию и, следственно, минуя традицию вообще. Псевдоамериканское кино на базе неамериканской литературы, что самое смешное. При том что у нас из приключенческой литературы — если говорить об экшенах — стал популярен только Акунин, который делает свои вещи почти пародийно. И по-настоящему мы, если бы не были провинциальны, должны бы делать, скажем, пародию на голливудский детектив, остранение его традиции, и тогда бы выиграли. Могли бы давать в привычной зрителю упаковке нечто отличающееся углом зрения, и это имело бы успех, в том числе и коммерческий. И мы выиграли бы даже, я бы сказал, кое-что для нашего кино. Научились бы связно излагать сюжет, чего по большому счету не умеем, научились бы делать действенное кино.
Диалоги научились бы писать энергичные.
Только мы этого не сделали. Почему? Тут много причин. Одна из них — школа. ВГИК не зря назвали именем Сергея Герасимова. Там учат в духе герасимовского психологизма, внешне правдоподобного, но довольно примитивного. Ребята, которые поумнее и полюбопытнее, конечно, смотрят много другого кино и сами набираются, но, тем не менее, у них почти нет шансов со своим насмотренным опытом пробиться к реальному кино.
Еще одна причина в том, что нет продюсеров. Фактически настоящих продюсеров у нас три-четыре человека: Александр Роднянский, Игорь Толстунов и еще парочка. У нас продюсер не является прогностиком, который способен понять, чего ждет сегодняшняя публика — в отличие от вчерашней. Я уж не говорю про тех, кто знает, чего захочет завтрашняя. На самом деле, продюсер — особое дарование, скорее он социолог, посредник между публикой и творцом.
Но настоящий продюсер не просто чувствует публику, он эту публику создает, как Дягилев. Публика еще не знала, что может быть «Весна священная». А Дягилев уже понимал, что будет после Чайковского, видел, что публика после «Шехерезады» Римского-Корсакова и «Жар-птицы» Стравинского почти готова к восприятию «Весны священной». Продюсер видит поле, видит сцепления приемов и смыслов, видит реакцию и ожидания. Он способен эпатировать публику так, чтобы она пережила поначалу шок, но потом сказала: «А мне это нравится». Продюсера не то что масштаба Сергея Павловича Дягилева — хотя бы масштаба Моисея Никифоровича Алейникова, создателя киностудии «Межрабпомфильм», у нас сейчас нет. Есть, конечно, Александр Роднянский, который вырос в киношной среде в Киеве, учился в Германии, великолепно понял: что нужно, как нужно. Он хорошо чувствует кино и социальные тенденции, он многое знает и умеет. Надо Бондарчуку сделать «Сталинград» — он будет продюсировать этот блокбастер, там дадут немереное число нулей, и он их потратит на дело и с толком. В то же время он будет тянуть постановку Андрея Звягинцева. Роднянский — настоящий профессионал, он прекрасно работает на поле «сегодня» ради завтра. Но он такой почти единственный. Большинство делает ставку на то, что вчера (вот только что) имело успех, и таким образом отправляет в завтра устаревшие кинематографические тексты. Наше кино сегодня отстает, потому что публика развивается быстрее, чем искусство, в то время как должно быть наоборот: искусство должно тянуть публику и вести ее за собой. Вот в этом, мне кажется, признак провинциализма.
Не думаю, что русская литература когда-либо была провинциальной. Она всегда была частью передовой мировой культуры. Но наше восприятие этой литературы, к сожалению, стало провинциальным. И мы перестали встраивать нашу культуру в контекст мировой культуры — увы, как в 1940-е годы.
Все тексты девятнадцатого века, что являются нашей славой, — все они в процессе века двадцатого менялись в восприятии. Тот же самый Достоевский прошел через Фрейда, через экзистенциализм, через Фолкнера и Джойса. Вдруг оказывалось, что Достоевский Джойса в чем-то предвосхитил. Даже не в технике внутренних монологов, а в том, каким образом в текстах миф увязан с его временем. То есть через Джойса мир стал иначе читать Достоевского. А мы все думаем, что он сам по себе и стопроцентно такой же был в XIX веке. Нет, он не такой же, но остался собой — ибо видел дальше и глубже своих современников.
Литература и кинематограф что общего
Темы исследований
Оформление работы
Наш баннер
Исследовательские работы и проекты
Литература и кино
В готовой исследовательской работе по литературе «Литература и кино» ученица 8 класса изучает взаимосвязь кино и литературы на примере произведения Н.В. Гоголя «Ревизор» и анализа кинофильмов «Инкогнито из Санкт-Петербурга» и «Ревизор».
Подробнее о работе:
В процессе работы над индивидуальным детским проектом «Литература и кино» автор рассуждает о «Ревизоре» Гоголя, как о комедийном произведении, выясняет, насколько совпадает основная мысль автора пьесы с замыслом, который реализовали режиссеры культовых кинокартин, снятых по сюжету произведения. Учащаяся школы, проведя подробный анализ произведения Н.В.Гоголя и сравнение его с кинематографической версией, пришла к выводу, что произведение сначала необходимо прочитать, а только потом смотреть фильм. Учащаяся утверждает, что литература и кино взаимосвязаны, но ни в коем случае не взаимозаменимы.
Оглавление
Введение
1. «Ревизор», как комедийное произведение Гоголя.
2. Сергей Газаров и его виденье Ревизора.
3. Сравнение фильма «Ревизор» и произведения.
4. «Инкогнито из Петербурга».
5. Сравнение двух фильмов.
6. Что лучше: смотреть или читать?
Заключение
Список литературы и иных источников
Введение
Цель: Возможно ли понять основную мысль литературного произведения по экранизации?
Задачи:
Прочитать и разобрать произведение «Ревизор»
Выявить идею режиссера и сравнить ее с авторской.
Какими способами режиссер пытается передать идею автора?
Что лучше: смотреть или читать?
Актуальность: Практический выход: Сделать коллаж из фотографий и письменного описания различных персонажей ревизора и сделать опрос: «Схожи ли персонажи кинематографии с письменным описанием автора произведения?»
«Ревизор», как комедийное произведение Гоголя
Основной сюжет заключается в том, что в уездный городок по слухам должен приехать ревизор. Местные начальнички начинают суетиться, у каждого есть свои грешки и нечистые делишки, все боятся быть пойманными за руку и разжалованными, а хуже того, вообще угодить в тюрьму. В этой городской суете появляется слух, что ревизор уже приехал, приехал инкогнито. Всем кажется, что это Хлестаков, молодой повеса, который ведет себя нагло и очень странно. Все переполошились, каждый старается угодить ревизору, дать ему денег, польстить, преклониться перед ним, опередит других, сказать что-то хорошее.
Хлестаков сначала ничего не понимает, пугается всеобщего внимания, потом быстро входит в роль и начинает пользоваться свалившимися на него благами: живет в свое удовольствие, «занимает» денег у всех, кто предлагает, обещает жениться на дочери городничего и «временно» уезжает в Петербург, чтобы закончить кое-какие дела и вернуться.
Его провожают, все счастливы, и вот приходит сообщение: ревизор приехал. Немая сцена. Уездный безымянный городок, изображенный в комедии, благодаря мастерству писателя становится обобщением всей России. Фразы из комедии стали крылатыми, а имена героев нарицательными в русском языке. В начале произведения написаны все действующие лица, из характеры и костюмы, что предназначено для актеров.
Сергей Газаров и его виденье ревизора
Основной сюжет фильма близок к книге. Интересный факт, Бобчинского и Добчинского играет один актёр-Авангард Леонтьев, это связано с тем, что режиссеру было тяжело найти близнецов, ведь Добчинский и Бобчинский- близнецы, соответственно, их играл один актёр. Задумка режиссера была в том, что «городской помещик был сумасшедшим с раздвоением личности»-так и оправдали отсутствие близнецов в актёрском составе.
По моему мнению, в фильме Сергея Газарова нет соблюдения порядка действий, события происходят слишком быстро и множество фраз в речи было опущено, чтобы сделать фильм меньше. Хоть и этому фильму дают оценку «6,4», но выглядит он через чур не слаженным. Действия преувеличены, что не дает зрителю проникнуть в суть происходящего. Я не советую смотреть этот фильм, ведь главная наша задача-это понять основную мысль произведения, а в этом фильме невозможно понять даже двух слов.
Сравнение фильма «Ревизор» и произведения
| Вопросы для сравнения. | Фильм «Ревизор». Сергей Ишханович Газаров. | Книга «Ревизор». Николай Васильевич Гоголь |
| Простота в прочтении/просмотре. | Экранизация сложна для «быстрого» и не вдумчивого просмотра из-за быстроты действий и излишней эмоциональности. | Проста в прочтении, если заранее выучить всех действующих лиц. |
| Действующие лица. | По моему мнению, Сергей Ишханович немного не точно подобрал костюмы к героям, но при этом замечательный актерский состав. | В книге нам приходиться приставлять/додумывать внешность и одежду героев, не смотря на краткое описание перед произведением. |
| Слаженность. | Нету понятного разделения на разные действия и явления, как показано в книге. | Разделение на явления и действия; После названия явления всегда есть названия места(где происходит явление) и список героев, участвующих в явлении. |
| Оценка критиков.(../10) | «6.8» от «Кинопоиск» и «6.4» от IMDb | «9,6» от «Литресс» |
| Советую ли я? | Я не советую смотреть этот фильм тем, кто хочет его посмотреть вместо прочтения книги. | Я советую прочитать «Ревизор». |
Сравнить фильм и книгу я хочу в виде таблицы, состоящей из шести вопросов, для возможных киноманов или читателей.
«Инкогнито из Петербурга»
«Инкогнито из Петербурга» — комедийный широкоформатный художественный фильм Леонида Гайдая по мотивам пьесы Николая Гоголя «Ревизор» и её третья советская киноэкранизация. Сюжет схож с книгой.
В фильме Леонида Гайдая есть особенность от книги и других фильмов-сначала зритель знакомится с Хлестаковым(эдаким «инкогнито из Петербурга»), а только после весть, что ревизор-Хлестаков доходит до Городничего.
Множество сцен немного в другом порядке от книги, чтобы этот фильм был более приближенный к художественному. Но в общем и целом фильм выглядит неплохо. Он приближен к книге, понятен и прост. Я бы посмотрела этот фильм вместо прочтения книги, т.к. он прост в просмотре, заинтересовывает зрителя с первых кадров. Отдельно я хочу разобрать костюмы некоторых героев и сравнить их с произведением.
Хочу взять для примера костюм Хлестакова и его письменное описание из произведения; «Хлестаков, молодой человек, лет 23-х, тоненькой, худенькой; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове. Один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно.
Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.» Как мы видим Николай Васильевич указал один интересный момент: «Одет по моде». Ниже, я хочу разобрать моду тех времён. Произведение было написано в 1835 году, значит, нам следует рассматривать отличительные особенности моды 19-того века. Вот, что я нашла в просторах интернета по этому поводу: «В 30-е годы произошли изменения в покрое фрака, его талия опустилась на положенное ей место и кроилась очень узкой.
Пышный рукав у плеча демонстрировал, как бы между прочим, хорошо развитые плечи и широкую грудь, при этом кисти рук должны были быть изящными и тонкими. Одежды надлежало не только сшить по моде, но и носить так, чтобы показать все достоинства тканей и украшений. Например, рединготы, напоминавшие сюртуки, такие же длинные, с такой же высокой застежкой, носили с шалями светло-серого цвета из зефирного сукна и с шелковыми того же цвета пуговицами.
В 1833 году «Дамский журнал» советовал мужчинам, «имеющим репутацию знатоков щегольства», носить рединготы из «неразрезного бархата, подбитые плюшем, или астраханской объяриной матерьею». Плащи, чья история уходит в глубокое прошлое, любимы были, пожалуй, не меньше, чем когда-то епанчи. Молодые щеголи носили их широченными да такими, что находившись в фаэтоне, укрывали плащом весь экипаж. Такой плащ подбивался тогда очень модным синим бархатом цвета «элодин».» Рассмотрев поподробнее костюм, мы видим, что на самом деле костюмы соответствуют описанию, которое я указала выше.
Теперь, я хочу рассмотреть костюм Хлестакова в фильме «Инкогнито из Петербурга» и сравнить его с описанием, которое я дала выше. Как мы видим, Леонид Гайдай примерно так же передал костюм тех времен у Хлестакова. Есть некоторые отличия в цветах, но это особо не играет роли, т.к. Режиссер не мог точно передать костюмы. А хотя…. Этот вопрос я оставлю не раскрытым в своей исследовательской работе.