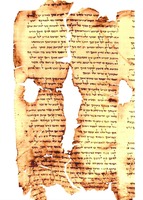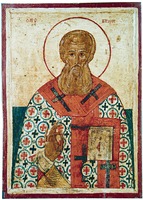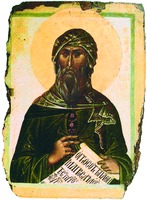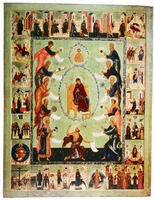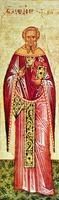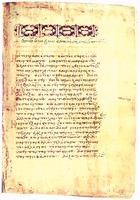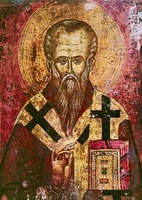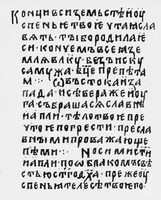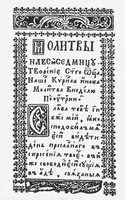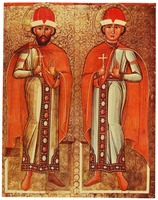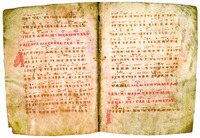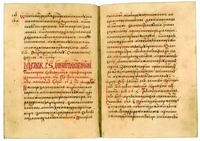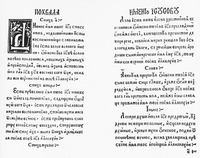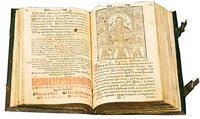что такое гимнографическое произведение
Что такое гимнографическое произведение
Гимнография – собственно продукт деятельности церковных песнописцев. Если песнопения, взятые из Священного Писания, можно сказать, Церковь получила в готовом виде как дар (если угодно, наследство) от библейской эпохи, то гимнография – плод творчества самой Церкви, аккумулирование опыта ее многовековой истории и самой жизни. И хотя авторитет библейских песнопений всё равно остается де факто более высоким, в современном богослужении гимнография занимает видное положение. Гимнографические тексты разных жанров присутствуют в любом богослужении, а на самых значимых службах суточного круга – вечерне и утрене (напомним, что в строгом смысле Литургия не является службой суточного круга) удельный вес гимнографического материала достаточно велик. Поэтому разговор об активном участии верующих в богослужении и о понимании самого богослужения во многом сводится к вопросу о том, как люди воспринимают церковную гимнографию. И здесь, к сожалению, однозначно приходится констатировать, что в своем большинстве прихожане наших храмов недостаточно хорошо понимают язык и содержание церковных песнопений. И здесь мы даже не берем в расчет так называемых «новоначальных», кто только недавно принял крещение или стал воцерковляться – трудности таких людей понятны. Но можно с уверенностью сказать, что проблема восприятия церковных песнопений актуальна и для подавляющего большинства достаточно воцерковленных людей, в том числе и для некоторых представителей духовенства. Вряд ли будет ошибкой такая аналогия: восприятие многими людьми песнопений сравнимо с тем, как человек видит верхушку айсберга. Слушающий может понимать общий смысл песнопения, какие-то отдельные выражения, но настоящий смысл, красота текста остается недоступной. И тут достаточно много причин, как объективных, так и субъективных. Вот, на наш взгляд, основные: церковнославянский язык богослужения, несовершенный перевод текстов, особые законы построения поэтических текстов, некачественное исполнение певцами и чтецами, недостаточное знание догматики и церковной истории, недооценка значения и красоты песнопений. Теперь о каждом аспекте скажем подробнее.
Язык нашего богослужения – церковнославянский, то есть совершенно особый язык со своей лексикой и грамматикой, отличный от современного разговорного и литературного (впрочем, на протяжении нашей истории такое различие имело место всегда, в том числе в допетровскую эпоху, хотя тогда степень этого различия была меньшей). По вопросу богослужебного языка дебаты с различной степенью активности присутствуют в нашей публицистике уже больше века, было предложено множество аргументов «за» и «против» церковнославянского языка. Противники церковнославянского языка, кроме самого факта его «непонятности», указывали на примеры Христа и апостолов, которые говорили с народом на понятном языке, а также ссылались на практику других стран, где богослужение ведется на родном языке. Сторонники церковнославянского отмечали его красоту, невозможность использования в богослужении буквального перевода некоторых слов (например, слово «ложесна»), всегда присущий Церкви здоровый консерватизм и пр. Разбор дискуссии – отдельная обширная тема, одно можно сказать точно: человек, если живет церковной жизнью, достаточно быстро «привыкает» к церковнославянскому языку, так что проблема понимания текстов для него связана не с языком самим по себе, а с другими аспектами (которые будут рассмотрены далее).
Несовершенный перевод текстов – серьезная проблема. Понятно, что большинство наших песнопений, кроме служб русским святым, переведены с греческого, причем отредактирован этот перевод был в середине XVII в. И здесь два главных недостатка: слишком буквальный перевод (такие переводы называются «калькой») греческого текста и иногда имеющиеся фактические ошибки в переводе. Понятно, что наши богослужебные книги нуждаются в некоторой редакции (с сохранением церковнославянского языка при устранении недочетов), но это – дело будущего (возможно, не столь близкого); сейчас же для частичного решения проблемы можно рекомендовать частное использование переводов текстов для их понимания (например, переводы многих служб можно найти на сайте Азбука.ру).

Четвертая проблема – не всегда внятное чтение и певческое исполнение богослужебных текстов – в наше время имеет определенную остроту по причине большого количества новых приходов и в связи с этим нехватки квалифицированных псаломщиков и певцов, а также отчасти в силу их недостаточно благоговейного отношения к своему служению. Понятно, что «рядовой прихожанин» вряд ли может кардинально повлиять на подобную ситуацию в определенном храме; впрочем, на практике частичное решение проблемы видится в том, чтобы заранее просматривать (или иметь у себя) тексты этих песнопений (как, например, многие люди делают на 1-й седмице Великого поста, принося с собой тексты Великого канона на повечерие). Что же касается священноначалия, то оно пытается повлиять на проблему (в частности, Митрополит Лонгин постоянно акцентирует внимание на качестве исполнения изменяемых песнопений), но, видимо, одних административных мер здесь недостаточно.
Многие песнопения имеют аллюзии на тексты Священного Писания или события церковной истории; понятно, что для их восприятия необходимо посильное знание православной догматики и Библии. Здесь можно заметить, что вся наша жизнь связана с учебой в широком смысле слова и истинный христианин на протяжении всей своей жизни будет стремиться к углублению знаний об основах нашей веры. Это интеллектуальное и сопряженное с ним нравственное развитие личности приносит истинную радость и можно только благодарить Бога за возможность регулярно совершать свои локальные открытия в области богословия и Священной истории. Тем более что недостатка в подобной литературе на текущий день мы точно не испытываем.
Наконец, последний фактор – недооценка значения и красоты песнопений – в той или иной степени связан с предыдущими. Если бы мы систематически изучали содержание песнопений, вдумывались в их смысл, мы бы изумились той красоте, которая открывалась бы перед нами. Понятно, что песнопения, составленные в разные эпохи и разными людьми, так же разнятся с эстетической точки зрения, как и произведения светских поэтов. Конечно, есть и «простые» песнопения, не имеющие особой богословской глубины и красоты, но вместе с ними есть и истинные шедевры, знакомство с которыми подобно эффекту настоящей встречи с прекрасным (последнее особенно относится к службам великих праздников, текстам Триодей и Октоиха). Примеров замечательных песнопений можно привести множество, ограничимся двумя текстами Триоди Постной. Так, в каноне пятницы 5-й седмицы, 9-я песнь, 1-й тропарь говорится: «Виде Илиа Господа в тонце ветре, истончив первее плоть молитвами и постом: емуже поревновавши душе моя, отвержи сладости дебельства, яко да узриши Желаемаго». Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что движение ветра есть «нечто среднее между существом телесным и бестелесным», или, другими словами, ветер – «тончайшее из тел». Получается, преподобный Иосиф Песнописец (IX в.), автор этого тропаря, выражает замечательную идею: чтобы произошла встреча Бога с человеком (теофания), необходимо двустороннее движение: Господь снисходит к пророку, принимая образ, пограничный между миром духовным и миром материальным, причем образ в наименьшей степени материальный – образ «тончайшего ветра». В то же время сам пророк возвышается от грубой плотской чувственности посредством «утончения» плоти постом. В итоге становится возможной встреча Бога с человеком.
Другой пример – стихира службы среды 6-й седмицы поста начинается словами: «Днесь издше Лазарь, и рыдает сего Вифаниа…» Автор этих строк, преподобный Феодор Студит, предлагает нам как бы перенестись в реальную ситуацию, предшествовавшую чуду воскрешения Лазаря, так что мы, находясь на богослужении, думаем о том, что сегодня Лазарь умер и его родное селение охвачено трауром! Уверен, мало кто из пришедших в этот день в храм даже подумает об умершем Лазаре (тем более что в календаре это никак не обозначено), но эта стихира и другие песнопения дня нас словно делают соучастниками далеких событий евангельской истории!
Подводя итог, отметим очевидную истину: к службе необходимо готовиться не только священно- и церковнослужителям, но и всем прихожанам. И эта подготовка должна заключаться в предварительном анализе богослужебных текстов, чтобы, услышав их в реальном богослужении, мы удостоились именно тех бесценных трепетных переживаний, ради которых эти песнопения были составлены и введены в наше богослужение.
ГИМНОГРАФИЯ
Истоки христианской Г.
Ветхозаветная Г.
В Кумране
помимо канонических псалмов (с чтениями, отличающимися от масоретского текста, причем иногда значительно) найдены по крайней мере 15 апокрифических (11QPsa; 4QPsf; 4Q522; 1QPsb; 11QapocPs), часть к-рых впосл. помещалась в христ. переводах Библии (напр., Пс 151; Сир 51. 13-30). По модели библейских псалмов в кумран. общине было написано более 30 «Благодарственных гимнов» (1QH, или Hodayot).
Раннехристианская Г.
Дискуссионным является вопрос о литургическом характере ряда поэтических фрагментов в составе НЗ. Длина этих фрагментов, к-рые выделяются из контекста по стилю, наличию признаков поэтического языка, вводных фраз (напр., «Верно слово» в 2 Тим 2. 11-13; «беспрекословно» в 1 Тим 3. 16), часто не превышает 1-2 строк. Наиболее известны встречающиеся в корпусе Павловых посланий христологические (Флп 2. 6-11; Кол 1. 15-20; Евр 1. 3) и крещальные (Тит 3. 4-7; Еф 5. 14) поэтические фрагменты, к-рые, может быть, являются примерами древнейших христ. гимнов. Неизвестно, написаны ли они самим апостолом или заимствованы из Свящ. Предания. Спорным является вопрос и о гимнографическом характере Ин 1. 1-18.
В XX в. были популярны теории о литургическом характере всего 1-го Послания ап. Петра, в к-ром видели крещальную или пасхальную службу. В наст. время эти теории отвергнуты, но ряд вероисповедных формул, содержащихся в послании, рассматриваются как весьма близкие к Г. (напр., 1 Петр 3. 18-22).
Древнегреч. поэзия (в т. ч. религ.) стала оказывать влияние на христ. Г. не ранее II-III вв. (напр., гимн Христу в «Педагоге» Климента Александрийского (Ɨ ок. 215) (SC; 158), песнь дев в «Пире десяти дев» сщмч. Мефодия Патарского (Ɨ ок. 311) с алфавитным акростихом (SC; 95)). Весьма близким к Г. можно считать произведение св. Мелитона Сардийского «О Пасхе» (Ɨ ок. 190) (SC; 123). Нек-рые древнейшие образцы церковных Г. сохранились в папирусах егип. происхождения (напр., P. Oxy. 1786, III в.; Барселонском папирусе IV в. и др.; см. также: Griechische literarische Papyri christlichen Inhalts. [Pt.] 2: Tafelband / Hrsg. K. Treu, J. Diethart. W., 1993).
Византийская Г.
неразрывно связана с историей византийского богослужения, повторяет основные периоды его развития и разделяется на доиконоборческий (313-726) и послеиконоборческий (843-1453) периоды.
Доиконоборческая византийская Г.
Признание христианства в качестве офиц. религии Римской империи оказало существенное влияние на развитие христ. богослужения. Предоставленные христианам свобода богослужебных собраний и право иметь специальные места для совершения богослужений обусловили как строительство новых храмов, так и быстрое развитие церковной Г. Уже в кон. IV в. свт. Василий Великий в 207-м письме к неокесарийским клирикам подчеркивал, что пение различных гимнов (ψαλμῳδία) составляло существенную часть богослужения в Сирии, Месопотамии, Финикии, Палестине, Аравии, Египте и др. церковных провинциях вост. части империи.
I. В IV-V вв. для большинства из этих провинций определяющее значение имела антиохийская литургическая традиция, к-рая во многом сформировала облик и характеристики иерусалимской и к-польской традиций. Известно, что Г. была одним из важнейших компонентов антиохийского богослужения. Сохранились только отдельные греч. песнопения, несомненно связанные с антиохийской литургической традицией: в составе кн. VII Апостольских постановлений (ок. 380) находятся «утренний гимн» («Слава в вышних Богу») и еще одно песнопение («Хвалите, отроки, Господа»), к-рые представляют собой образцы простой ритмизованной прозы. Однако разнообразные гимнографические тексты различных жанров известны из сир. литургической традиции, к-рая входила в «антиохийское литургическое пространство». Содержание этих текстов было связано как с воспоминаемыми событиями, так и с чтениями из Свящ. Писания за богослужением.
Сопоставление сир. гимнографических текстов с греч. показывает, что по структуре и организации текста жанры сир. Г. существенно не отличались от ранних жанров христ. греч. Г., т. к. сходные лит. формы были известны и в греч. традиции. Напр., в заключительной части «Пира десяти дев» сщмч. Мефодия Патарского находится особый «псалом», лит. структура и способ исполнения к-рого совпадают со структурой сир. мадраш. С сир. проповедями типа мемры сопоставимы проповеди свт. Григория Богослова († 390), многие из к-рых не только были ритмически организованы, но и исполнялись в богослужебной практике, на что указывает их использование гимнографами последующих периодов. Хорошо был известен в греч. традиции и изосиллабизм, о чем свидетельствует большое число различных гимнов ката стихон (κατὰ στίχων), наиболее распространенным из них является гимн ῾Η ἀσώματος φύσις τὰ Χερουβείμ̇ ( ), сохранившийся во множестве ранних списков (ныне входит в состав великого повечерия).
Исполнение разнообразных гимнографических произведений обеспечивали в антиохийской традиции «сыновья» и «дочери завета», т. е. члены аскетических общин, существовавших при городских храмах. С этими же общинами были связаны и такие известные создатели сир. Г., как, напр., прп. Ефрем Сирин (Ɨ 373).
II. Центром формирования и развития иерусалимского богослужения являлся церковный комплекс, построенный в Св. граде в IV в., куда входил Анастасис (храм Воскресения) и Мартириум (базилика Константина). Движущей силой развития иерусалимского богослужения IV-VI вв., как и в антиохийской литургической традиции, были городские аскетические общины («тагмы спудеев»), к-рые обеспечивали регулярное совершение богослужения в иерусалимских храмах.
Основу суточных служб в иерусалимской традиции составляло пение Псалтири, однако уже в кон. IV в. использовались различные гимнографические сочинения, о к-рых неоднократно упоминает паломница Эгерия (кон. IV в.). Греч. оригиналы этих сочинений в основном утрачены, однако в составе древних арм. и груз. гимнографических сборников Шаракноц и Иадгари содержатся нек-рые, совпадающие между собой праздничные и воскресные песнопения, восходящие к несохранившимся греч. оригиналам иерусалимского происхождения. Кроме того, отдельные песнопения встречаются в составе арм. и груз. переводов иерусалимского Лекционария. К древним иерусалимским антифонам принадлежат и тропари (антифоны) Великой пятницы, к-рые в древности пелись со стихами псалмов.
Как и в антиохийской литургической традиции, иерусалимские спудеи использовали в богослужении не только псалмы и антифоны, но и разнообразные гимнографические сочинения, сопоставимые с сир., на что указывают особенности палестинской Г. VII-VIII вв. Так, лит. форма и наличие акростиха в праздничных песнопениях патриарха Иерусалимского свт. Софрония I (633/4-638), известных под названием «анакреонтические стихотворения», свидетельствуют о том, что они восходят к древней гимнографической традиции.
Богослужение в палестинских мон-рях (киновиях) в V-VI вв. во многом определялось литургической традицией городских аскетических общин (спудеев), но его отличало отсутствие сложной Г., характерной для городских храмов. Палестинское келлиотское монашество почти не использовало гимнографические тексты. В VII в. в палестинской литургической традиции произошли существенные изменения. Монахи, занявшие в Иерусалиме и др. городах Палестины место спудеев после перехода власти к арабам (637), принесли в храм Воскресения и др. городские храмы свою богослужебную традицию, в основе к-рой лежало монашеское псалмопение, что привело к изменениям в составе комплекса гимнографических текстов.
Кроме кондаков в к-польском богослужении существовали более простые гимнографические жанры. Краткие «тропари», к-рые распевались антифонно, связаны с именем прп. Авксентия Вифинского († ок. 470). К древним к-польским антифонам принадлежат и тропари, певшиеся вместе со стихами псалмов в навечерия Рождества Христова и Богоявления между ветхозаветными чтениями и находившиеся в Профитологии (см. ст. Паремийник). Большой «тропарь» догматического содержания «Единородный Сыне», введение к-рого в богослужебный обиход связано с именем св. имп. Юстиниана († 565), исполнялся в начальной части Божественной литургии.
В VII в. в результате палестинского влияния в к-польской богослужебной традиции появились не только тексты палестинского происхождения, но и новые гимнографические формы. Вероятно, во 2-й пол. VII в. каноны древнего Тропология, связанные с осмогласием, становятся известными в К-поле и М. Азии. Во многом под их влиянием составляли свои 9-песненные каноны (отличительной особенностью к-рых было наличие ирмосов, 2-й песни, богородичнов, а также отсутствие акростиха) прп. Андрей Критский († 740) и свт. Герман I К-польский († до 754).
В сер. VIII в. в результате литургической реформы в к-польском богослужении гимнографический материал, использовавшийся ранее аскитирионами, подвергся сокращению. Новая литургическая традиция была зафиксирована в Синаксаре Великой ц. (см. Типикон Великой ц.), набор гимнографических жанров к-рого достаточно ограничен. В нем приводятся гл. обр. тропари (или ипакои), используемые как припевы к стихам псалмов, и почти не упоминаются древние гимнографические произведения, в т. ч. и кондаки.
Послеиконоборческая византийская Г.
Господствующее положение в правосл. Церкви в кон. VIII в. заняли монахи, к-рые были проводниками палестинского литургического влияния, что стало причиной новых изменений в визант. богослужении. Одновременно с изменениями в структуре служб суточного круга и появлением новых гимнографических текстов палестинского происхождения в визант. богослужении утвердилось иерусалимское (палестинское) осмогласие, связанное с этими текстами.
Литургическая традиция к-польского монашества формировалась в посл. трети VIII в. в М. Азии и известна под поздним названием «студийская». Именно там прп. Феодор Студит († 826) познакомился с литургической традицией палестинского происхождения, в частности с палестинской гимнографией и осмогласием. Наличие 2-й песни в канонах студийских гимнографов, а также в богослужебных книгах студийской эпохи показывает, что студиты продолжали ту архаичную традицию палестинского происхождения, с к-рой была связана гимнографическая деятельность прп. Андрея Критского и свт. Германа I К-польского.
Во 2-й пол. IX в. был сформирован корпус гимнографических текстов послеиконоборческого периода. Все гимнографические тексты с седмичным кругом богослужения вошли в Октоих. Тексты годового подвижного богослужебного круга образовали Триодь (впосл. разделившуюся на Триоди Постную и Цветную, или Триодь и Пентикостарий), а тексты годового неподвижного богослужебного круга вошли в состав служебной Минеи (анализ источников показал, что основным источником гимнографических текстов Минеи был послеиконоборческий к-польский агиографический Синаксарь, содержащий краткие сведения о празднуемых святых).
Минеи, Триоди и Октоих, входившие в комплекс богослужебных книг, использование к-рых регламентировал студийский Синаксарь, содержали как песнопения палестинского происхождения (преподобных Иоанна Дамаскина и Космы Маюмского), так и новые песнопения, созданные прп. Феодором Студитом и др. студийскими (Иосиф († 832), Николай (IX в.), Климент (IX в.) Студиты) и нестудийскими гимнографами послеиконоборческой к-польской традиции (Феофан Начертанный († 845), Георгий Никомидийский (IX в.), Иосиф Песнописец († 886) и др.).
Визант. гимнографы послеиконоборческого периода постоянно увеличивали количество гимнографических текстов (гл. обр. канонов и стихир), посвященных тем или иным воспоминаемым событиям или же памятям святых. По образцу существовавших писались службы новопрославленным святым. Кроме того, под влиянием канонов Октоиха создавались комплекты молебных канонов Пресв. Троице, Богородице, святым, что в свою очередь стало причиной появления особых молебных канонов в Минеях, формирования Богородичника (бытующего как в виде самостоятельной книги, так и в составе Октоиха), появления цикла канонов Пресв. Троице в Октоихе и др. Однако все песнотворчество происходило в рамках уже существовавшей системы жанров.
Славянская Г.
Древнейшая оригинальная славянская Г.
Г. Русской Церкви
Гимнографические книги в X-XI вв.
Ранняя русская Г. (XI-XIII вв.)
Из 2 древних канонов, посвященных перенесению мощей свт. Николая Мирликийского в Бари, к-рые в лит-ре принято относить к творчеству Ефрема, еп. Переяславского, один (4-го гласа, нач.: «Просвети душу и сердце») обладает такой редчайшей для ранней рус. Г. особенностью, как текстовой акростих (окончание его частично утрачено во всех списках, и поэтому нельзя установить, сопровождался ли он именем автора).
Памятники русской Г. XIV в.
На рубеже XIV и XV вв. на Руси
Оригинальная Г. на Руси в XV в. развивалась прежде всего благодаря деятельности серб. книжника Пахомия Логофета († после 1484), прибывшего в 30-х гг. с Афона. Им было написано больше служб и канонов, чем всеми остальными авторами этого времени, вместе взятыми. Он составил службы как давно почитаемым, так и канонизированным в его время рус. святым (прп. Варлааму Хутынскому, Знамению Богоматери в Новгороде, преподобным Сергию и Никону Радонежским, свт. Алексию Московскому, преподобным Евфимию Новгородскому, Антонию Печерскому, Кириллу Белозерскому, Савве Вишерскому, свт. Ионе Московскому, святым Михаилу и Феодору Черниговским, свт. Стефану Пермскому, на перенесение мощей свт. Петра) и даже древним пророкам (в службе прор. Илии слав. канон Пахомия заменил переведенный с греч. канон Иосифа). С именем Пахомия (в этом смысле следовавшего за предшествующей южнослав. традицией) связано возрождение и широкое распространение на Руси практики использования текстового акростиха. Творчество Пахомия оказало сильное воздействие как на совр. ему книжников, так и на авторов XVI в. С этого времени на Руси становится почти правилом, чтобы агиограф был и гимнографом. К числу ранних подражаний Г. серб. книжника относится анонимная служба прп. Димитрию Прилуцкому, написанная не позднее посл. четв. XV в.
В XVI в.
Каноны и стихиры новым святым часто изобилуют житийными деталями, иногда в них встречаются элементы полемики (спор городов о мощах святого в службе кн. Всеволоду (Гавриилу), церковные споры в службе прп. Иосифу Волоцкому и т. п.). Над созданием служб трудились книжники из окружения Новгородского архиеп. (впосл. митрополит) Макария: Василий, Варлаам, Илья, Пахомий, псковский инок Филофей и др.
Службы, созданные в посл. трети XVI в., немногочисленны, они посвящены исключительно новопрославленным святым. В целом уровень обширной рус. Г. этого столетия неровен; творения, подобные тем, что были написаны Маркеллом, составляют меньшинство, преобладают подражательные и компилятивные тексты. Оригинальные гимнографические произведения поздно дошли до печатного станка (исключение составляет дважды (ок. 1589 и ок. 1595) изданная в Казани служба явлению Казанской иконы Божией Матери): первые издания Общей и Праздничной Миней вышли в свет только на рубеже столетий (1600).
Особенность рус. Г. XVI в. составляет значительное число служб, посвященных Христа ради юродивым (Прокопию Устюжскому, Николе Качалову, Иакову Боровицкому, Василию Блаженному, Максиму Московскому и др.), вызванное распространением на Руси в это время такой формы христ. подвижничества. Т. о. знаменательным и закономерным стало появление в рус. варианте Общей Минеи отдельной службы лику юродивых. Также было составлено много служб, посвященных чудотворным иконам Божией Матери: Смоленской (вероятно, ок. 1514), Тихвинской, Мирожской, Чирской (службы Колоцкой иконе и Казанской, последняя издана отдельной брошюрой ок. 1589), повторяют текст службы Смоленской иконе). Новшество XVI в.- появление светских гимнографов, сначала в лице царствующих особ: царя Иоанна IV Грозного (см. ниже) и его сына царевича Иоанна Иоанновича, написавшего в 1579 г. службу прп. Антонию Сийскому, к-рая отличается пространными, тяжелыми по изложению стихирами, нехарактерными для традиций визант. Г.
Г. в западнорусской Киевской митрополии XVI-XVII вв.
Русская Г. XVII в.
XVIII-XIX вв.
XX-XXI вв.
Среди проч. деяний Поместного Собора 1917-1918 гг. было восстановление празднования памяти всех Российских святых в 1-е воскресенье после Всех святых недели. На основе службы инока Григория XVI в. Б. А. Тураевым и иером. (впосл. епископ священноисповедник) Афанасием (Сахаровым) была составлена новая служба, к-рую священноисп. Афанасий редактировал впосл. всю жизнь (см. ст. Всех святых, в земле Российской просиявших, неделя).
Крупным событием в истории РПЦ 2-й пол. XX в. стало расширенное издание богослужебных Миней (Минея (МП). М., 1978-1989), в к-рое помимо служб офиц. синодальных Миней было включено множество последований, публиковавшихся ранее в отдельных брошюрах или известных только по рукописям,- службы как рус., так и болг., серб., груз., греч. святым. Новый подъем гимнографического творчества в РПЦ был связан с канонизацией на Соборах 1988 и 2000 гг. мн. святых, давно почитаемых правосл. народом, и сонма новомучеников и исповедников Российских. После Собора 1988 г. были написаны службы всем прославленным на Соборе святым, а Архиерейский Собор 2000 г. благословил составление отдельных служб каждому из прославляемых святых. В наст. время службы новоканонизированным святым печатаются отдельными брошюрами, а также включаются в состав служебных Миней (как правило, в приложения). Утверждением новосоставленных гимнографических текстов для общецерковного употребления занимается Синодальная Богослужебная комиссия; в 2005 г. в Москве вышел 1-й т. Дополнительной Минеи, содержащий рассмотренные комиссией службы новопрославленным святым.
Г. южных и западных славян
Южнославянская Г. ХIII-XVIII вв.
Взлет серб. державы в правление Стефана Душана (1331-1356) и последовавший за этим ее упадок не способствовали развитию Г. (как и лит-ры в целом, за исключением переводов), только в посл. четв. XIV в. возникли новые гимнографические произведения. Крупнейшим гимнографом эпохи был патриарх Ефрем (см. выше). В 1380 г. инок мон-ря Баньска (впосл. патриарх Даниил III) написал службу в честь основателя обители кор. Стефана Уроша II Милутина, в к-рой прославил вместе с ним его мать Елену Анжуйскую и брата Драгутина (О Србљаку. (II) 1970. С. 297-299). Сразу после трагической гибели в битве на Косовом поле св. кн. Лазаря (1389) анонимные авторы написали тропарь и 2 цикла стихир в его честь (Там же. С. 300-302), а нек-рое время спустя (ок. 1402) в его «задужбине», мон-ре Раваница, была составлена и полная служба, в к-рой мученик воспевается как духовный победитель (Там же. С. 303-305).
Греческая Г. XI-XVIII вв. в Охридской архиепископии, посвященная славянским святым
Славянская Г. в Чехии, Польше и Хорватии в X-XI и XIV вв.
Древнейшим памятником слав. Г. в Чехии, продолжающим кирилло-мефодиевские традиции Вел. Моравии, является канон кн. мч. Вячеславу, написанный, вероятно, вместе с его слав. Житием (т. н. первым) во 2-й пол. X в. Канон сохранился в 2 рус. списках (XI и XII вв.) в составе 2 древнейших новгородских комплектов служебных Миней. Слав. служба кнг. мц. Людмиле (или канон ей) не сохранилась, но не исключено, что следы ее (по аналогии с Житием) следует искать в рус. гимнографических сочинениях, посвященных св. кнг. Ольге. Не до конца решенным остается вопрос о датировке и месте создания (Чехия или еще Вел. Моравия) канона мч. Виту.
Г. нехалкидонских Церквей
Коптская Г.
В XIX-XX вв. в копт. богослужение стали вводиться гимны 
Эфиопская Г.
К оригинальным произведениям относятся гимны «малкэ’» (мн. ч. «малкэ’ат») (от древнеэфиоп.- образ, внешность), исполняемые на памяти святых, в к-рых возносятся хвалы каждой части тела святого (напр., «мир главе твоей, которая. », «мир рукам твоим, которые. ») и прославляются Имена Лиц Пресв. Троицы. Эти песнопения появились в XV-XVI вв., возможно под католич. влиянием.
Широко распространены сборники Богородичных гимнов, такие как «Похвалы Марии» ( 



Значительное место в эфиоп. богослужении отводится импровизированным хвалитным гимнам кэне ( 


Армянская Г.
Сирийская Г.
Латинская Г.
Терминология
Хотя к Г. в лат. традиции, как и в вост., относятся прежде всего песнопения церковного сочинения, термин hymnus в лат. литургических книгах используется очень широко (см. ст. Гимн). На протяжении средних веков в лат. Г. сформировалось множество жанров: собственно гимны (т. е. песнопения, имеющие строгую метрическую или ритмическую форму), тропы, секвенции, versus, мотеты и проч.
Эпоха Вселенских Соборов
Мн. ранние авторы писали гимны не для литургического использования. Так, блж. Августин составил алфавитный псалом, чтобы привлечь народ к борьбе с донатистами (Abecedarium psalmum contra partem Donati). Сочинения Аврелия Публия Климента Пруденция (Ɨ после 405), написанные им только для частного употребления, впосл. вошли в богослужебную практику не только рим. обряда, но и др. лат. традиций (испано-мосарабской, североитальянской). В гимнах, входящих в его сборники стихов «Kathemerinon» (Ежедневник) и «Peri stephanon» (О венцах), используется 7-стопный каталектический диметр. Его гимны, согласно рим. Бревиарию, пелись на Laudes вторника, среды и четверга и на Laudes праздника Вифлеемских младенцев (28 дек.).
С V в. наряду с метрическими гимнами начинает развиваться ритмическая поэзия. Первым христ. автором, использовавшим для написания гимнов популярный в античности versus saturnius, был Ауспикий, еп. Туля (Ɨ ок. 490).
В рим. обряде гимны долгое время почти не использовались (в базилике св. Петра до XI в.). Вероятно, гимны писал свт. Григорий Великий (Ɨ 604). Согласно легенде, в 592 г. он отправил св. Колумбе книгу гимнов для служб суточного круга (Matutinae, Laudes, Vespera).
В Ирландии древнейший литургический гимн приписывается св. Секундину (Ɨ 448). Гимн «Audite, omnes amantes Deum» (Услышьте, все любящие Бога) посвящен св. Патрику. К той же эпохе относится анонимный причастен (communio) «Sancti venite». Известно также 5 гимнов св. Колумбы (Ɨ 597), в т. ч. «Altus prosator» (Великий Творец), к-рый в Новое время воспринимался как пророчество об открытии Нового Света, гимны св. Колумбана (Ɨ 615), св. Ультана (Ɨ 656) и др.
В эпоху Каролингов
Павел Диакон (Ɨ ок. 799) написал гимны Иоанну Крестителю (в наст. время его авторство оспаривается) и на Успение Пресв. Девы. Павлину Аквилейскому (Ɨ 802) принадлежат 9 гимнов, в т. ч. на память первоверховных апостолов. 2 гимна написаны Алкуином (Ɨ 804). На общем фоне выделяется гимн для процессии на праздник Входа Господня в Иерусалим «Gloria laus et honor tibi sit» (Слава, хвала и честь Тебе подобают) Теодульфа Орлеанского (Ɨ 821). Рабан Мавр (Ɨ 856), написавший гимны на Вознесение, на память мучеников и 2 гимна арх. Михаилу, долгое время считался автором гимна «Veni, creator spiritus» (Приди, Дух Создатель), к-рый в наст. время признается анонимным сочинением. В Ирландии в IX в. творил Седулий Скот. В IX-X вв. формировались гимнографические школы в мон-рях Фульда (Валафрид Страбон, Готшальк из Орбе), Сент-Аман (Милон, Хукбальд), Прюм (Вандальберт), Клюни (Одон, Одилон), Санкт-Галлен (Ратперт, Вальдрам, Тутилон, Ноткер Заика, аббат Гартман Младший, Эккехард II и Эккехард IV). С последним мон-рем связано появление и развитие жанра секвенции.