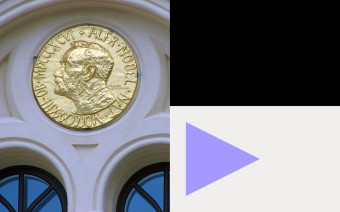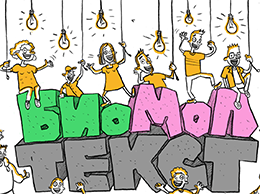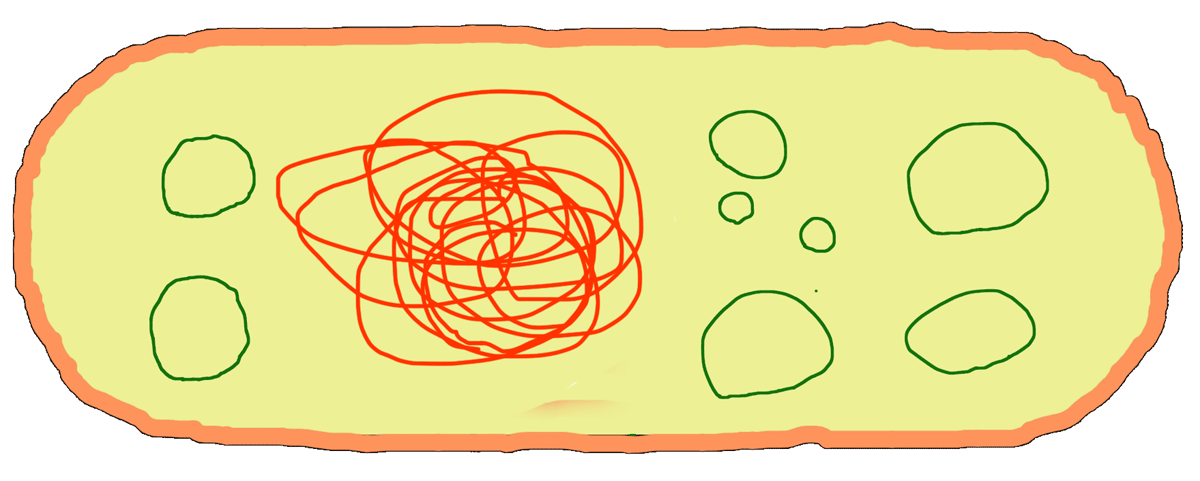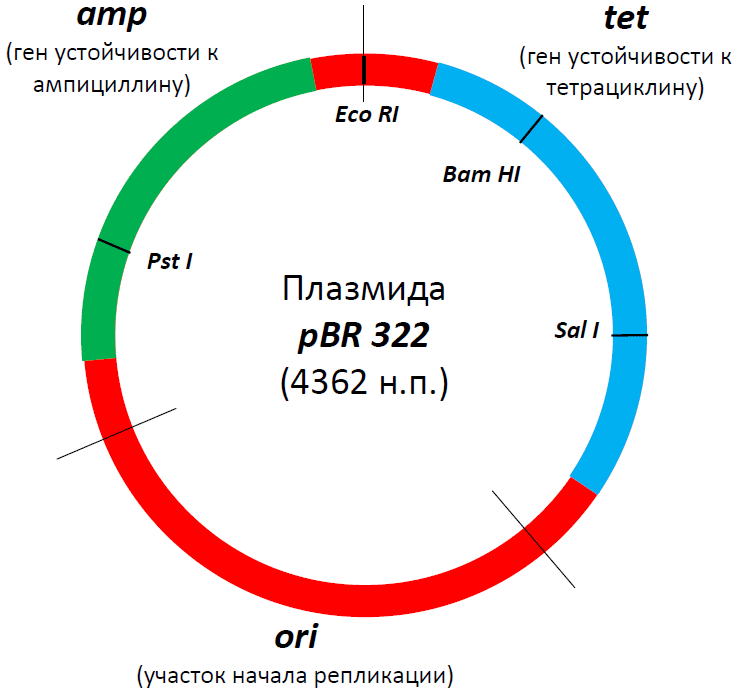что такое генный аппарат
Что такое генная инженерия и зачем вмешиваться в природу организмов
Содержание:
Генная инженерия — это современное направление биотехнологии, объединяющее знания, приемы и методики из целого блока смежных наук — генетики, биологии, химии, вирусологии и так далее — чтобы получить новые наследственные свойства организмов.
Перестройка генотипов происходит путем внесения изменений в ДНК (макромолекулу, обеспечивающую хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов) и РНК (одну из трех основных макромолекул, содержащихся в клетках всех живых организмов).
Если внести в растение, микроорганизм, организм животного или даже человека новые гены, можно наделить его новой желательной характеристикой, которой до этого он никогда не обладал. С этой целью сегодня генная инженерия используется во многих сферах. Например, на ее основе сформировалась отдельная отрасль фармацевтической промышленности, представляющая собой одну из современных ветвей биотехнологии.
История развития
Истоки
Основы классической генетики были заложены в середине XIX века благодаря экспериментам чешского-австрийского биолога Грегора Менделя. Открытые им на примере растений принципы передачи наследственных признаков от родительских организмов к их потомкам в 1865 году, к сожалению, не получили должного внимания у современников, и только в 1900 году Хуго де Фриз и другие европейские ученые независимо друг от друга «переоткрыли» законы наследственности.
Параллельно с этим шел процесс формирования знаний о ДНК. Так, в 1869 году швейцарский биолог Фридрих Мишер открыл факт существования макромолекулы, а в 1910 году американский биолог Томас Хант Морган обнаружил на основе характера наследования мутаций у дрозофил, что гены расположены линейно на хромосомах и образуют группы сцепления. В 1953 году было сделано важнейшее открытие — американец Джон Уотсон и британец Фрэнсис Крик установили молекулярную структуру ДНК.
На подъеме
К концу 1960-х годов генетика активно развивалась, а ее важными объектами стали вирусы и плазмиды. Были разработаны методы выделения высокоочищенных препаратов неповрежденных молекул ДНК, плазмид и вирусов, а в 1970-х годах был открыт ряд ферментов, катализирующих реакции превращения ДНК.
Генная инженерия как отдельное направление исследовательской работы зародилась в США в 1972 году, когда в Стэнфордском университете ученые Пол Берг, Стэнли Норман Коэн, Герберт Бойер и их научная группа внедрили новый ген в бактерию кишечной палочки (E. coli), то есть создали первую рекомбинантную ДНК.
Техника ПЦР была впервые разработана в 1980-х годах американским биохимиком Кэри Маллисом. Будущий лауреат Нобелевской премии по химии (1993 года), обнаружил в специфический фермент — ДНК-полимеразу, который участвует в репликации ДНК. Этот фермент буквально считывает отрезки цепи нуклеотидов молекулы и использует их в качестве шаблона для последующего копирования генетической информации.
Новая эра
В 1996 году методом пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки на свет появилось первое клонированное млекопитающее — овца Долли. Это событие стало революционным в истории развития генной инженерии, потому что впервые стало возможным серьезно говорить о создании клонов и выращивании живых организмов на основе молекул.
Технологии генной инженерии
Генная инженерия за короткий срок оказала огромное влияние на развитие различных молекулярно-генетических методов и позволила существенно продвинуться на пути познания генетического аппарата.
Так, появилась технология CRISPR — инструмент редактирования генома. В 2014 году MIT Technology Review назвал его «самым большим биотехнологическим открытием века». Он основан на защитной системе бактерий, которые производят специальные ферменты, позволяющие им защищаться от вирусов.
«Каждый раз, когда бактерия убивает вирус, она разрезает остатки его генома, будь то ДНК или РНК, и сохраняет их внутри последовательности CRISPR, как в архив. Как только вирус атакует снова, бактерия использует информацию из «архива» и быстро производит защитные белки Cas9, в которых заключены фрагменты генома вируса. Если вдруг эти фрагменты совпадают с генетическим материалом нынешнего атакующего вируса, Cas9 как ножницами разрезает захватчика, и бактерия снова в безопасности», — поясняет Алевтина Федина, медицинский директор Checkme.
Уникальное открытие состоялось в 2011 году, когда биологи Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье обнаружили, что белок Cas9 можно обмануть. Если дать ему искусственную РНК, синтезированную в лаборатории, то он, найдя в «архиве» соответствие, нападет на нее. Таким образом, с помощью этого белка можно резать геном в нужном месте — и не просто резать, а еще и заменять другими генами.
Теоретически, технология CRISPR может позволить редактировать любую генетическую мутацию и излечивать заболевание, которое она вызывает. Но практические разработки CRISPR в качестве терапии еще только в начальной стадии, и многое еще непонятно.
Есть и другие методы генной инженерии, например, ZFN и TALEN.
Где и как применяется генная инженерия
Медицина
Уже сейчас активно применяется инсулин человека (хумулин), полученный посредством рекомбинантных ДНК. Клонированные гены человеческого инсулина были введены в бактериальную клетку, где начался синтез гормона, который природные микробные штаммы никогда не синтезировали. С 1982 года компании США, Японии, Великобритании и других стран производят генно-инженерный инсулин.
Кроме того, несколько сотен новых диагностических препаратов уже введены в медицинскую практику. Среди лекарств, находящихся в стадии клинического изучения, препараты, потенциально лечащие артрозы, сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и СПИД. Среди нескольких сотен генно-инженерных компаний 60% заняты именно разработкой и производством лекарственных и диагностических средств.
«В медицине среди достижений генной инженерии сегодня можно выделить терапию рака, а также другие фармакологические новинки — исследования стволовых клеток, новые антибиотики, прицельно бьющие по бактериям, лечение сахарного диабета. Правда, пока все это на стадии исследований, но результаты многообещающие», — говорит Алевтина Федина.
Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве одна из важнейших задач генной инженерии — получение растений и животных, устойчивых к вирусам. В настоящее время уже есть виды, способные противостоять воздействию более десятка различных вирусных инфекций.
Еще одна задача связана с защитой растений от насекомых-вредителей. Путем генетической модификации растений можно уменьшить интенсивность обработки полей пестицидами. Например, трансгенные растения картофеля и томатов стали устойчивы к колорадскому жуку, растения хлопчатника — к разным насекомым, в том числе и к хлопковой совке.
Использование генной инженерии позволило сократить применение инсектицидов (препаратов для уничтожения насекомых) на 40–60%.
Благодаря генной инженерии зерновые культуры стали более устойчивы к климатическим условиям, кроме того появилась возможность увеличить количество витаминов и полезных веществ в продукте. Например, можно обогатить рис витамином «А» и выращивать его в тех регионах, где люди имеют массовую нехватку этого элемента.
С помощью генной инженерии пытаются решить и экологические проблемы. Так, уже созданы особые сорта растений с функцией очистки почвы. Они поглощают цинк, никель, кобальт и иные опасные вещества из загрязненных промышленными отходами почв.
Скотоводство
В Кемеровской области работа генетиков позволила получить устойчивое к вирусу лейкоза племенное поголовье высокопродуктивных животных. Для проведения эксперимента кузбасские ученые отобрали здоровых коров черно-пестрой породы массой до 500 кг. Животным трансплантировали модифицированные эмбрионы, устойчивые к вирусу лейкоза. В середине сентября 2020 года родилось 19 телят с измененными генами.
«В месячном возрасте была проведена оценка, которая показала, что телята отличаются от своих сверстников только устойчивостью к вирусу. Пять особей отобрали для дальнейшей селекционной работы. Это позволит закрепить наследственные признаки устойчивости к вирусу лейкоза у последующих поколений», — пояснила руководитель проекта, доктор биологических наук, профессор кафедры зоотехнии Кузбасской ГСХА Татьяна Зубова.
По словам Зубовой, лейкоз крупного рогатого скота — вирусная хронически неизлечимая болезнь, при которой возникают поражение кроветворной системы и новообразования. Данное заболевание наносит значительный ущерб генофонду пород и мясной промышленности в целом, потому что мясо зараженных животных запрещено употреблять в пищу. Единственным доступным методом борьбы с лейкозом ранее было только уничтожение зараженного скота.
Этот успех позволяет говорить о том, что в дальнейшем будет возможно редактировать гены крупного рогатого скота и от других болезней.
С прицелом на человека
В 2009 году группа ученых под руководством молодого исследователя Джея Нейтца из Вашингтонского университета сумели с помощью генной терапии вернуть обезьянам способность различать оттенки зеленого и красного, которой они были лишены от рождения.
В область сетчатки глаза двух подопытных обезьян был введен безвредный вирус, несущий недостающий ген фоточувствительного рецептора. Вскоре после процедуры обе обезьяны начали различать оттенки красного и зеленого на сером фоне. Два года наблюдения не выявили у них каких-либо нарушений, поэтому ученые не исключают, что данную методику уже вскоре можно будет применять у людей, страдающих дальтонизмом.
Ученые шагнули еще дальше и уже пробуют выращивать в теле животных органы для трансплантации людям. Для минимизации риска отторжения тканей животным вводят специальные гены. Этими опытами занимается научная лаборатория Рослинского института в Великобритании, которая представила миру овцу Долли.
В 2019 году британские ученые вывели кур, яйца которых содержат два вида человеческих белков, способных противодействовать артриту и некоторым видам онкологических заболеваний. В яйцах содержится человеческий белок под названием IFNalpha2a, обладающий мощными противовирусными и противораковыми свойствами, а также человеческий и свиной вариант белка под названием макрофаг-CSF, который планируют использовать для создания препарата, стимулирующего самостоятельное заживление поврежденных тканей.
Изменение ДНК человека
Первые клинические испытания методов генной терапии были предприняты 22 мая 1989 года с целью генетического маркирования опухоль-инфильтрующих лимфоцитов в случае прогрессирующей меланомы.
14 сентября 1990 года в Бетесде (США) четырехлетней девочке, страдающей наследственным иммунодефицитом, обусловленным мутацией в гене аденозиндезаминазы (АDA), были пересажены ее собственные лимфоциты.
Работающая копия гена ADA была введена в клетки крови с помощью модифицированного вируса, в результате чего клетки получили возможность самостоятельно производить необходимый белок. Через шесть месяцев количество белых клеток в организме девочки поднялось до нормального уровня.
После этого область генной терапии получила толчок к дальнейшему развитию. С 1990-х годов сотни лабораторий ведут исследования по использованию генной терапии для лечения различных заболеваний. Уже сегодня с помощью генной терапии можно лечить диабет, анемию и некоторые виды онкологии.
Генная терапия
Генная терапия — введение, удаление или изменение генетического материала, в частности ДНК или РНК, в клетке пациента для лечения определенного заболевания.
Существует три основных стратегии использования генной терапии:
Наиболее часто применяемый метод включает вставку «терапевтического» гена для замены «ненормального» или «вызывающего болезнь».
В 2015 году впервые была проведена процедура изменения ДНК человека с целью продления молодости клеток, когда американке Элизабет Пэрриш 44 лет ввели в организм препарат, влияющий на ДНК, а в 2018 году китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что с его помощью у двух детей-близнецов якобы изменены гены для выработки у них иммунитета к вирусу ВИЧ, носителем которого являлся их отец.
Все это, с одной стороны, выглядит грандиозно и обнадеживает, но с другой, — вызывает опасения, ведь генетические манипуляции, теоретически, возможно использовать не только в благих и мирных целях.
После эксперимента с ДНК близнецов в Китае, ЮНЕСКО выступила с инициативой о запрете изменения генов у новорожденных до того момента, пока достоверно не будет доказана безопасность таких манипуляций.
Этическая сторона вопроса
В 1997 году ЮНЕСКО выпустила Всеобщую декларацию о геноме человека и его правах, рекомендовав мораторий на генетическое вмешательство в зародышевую линию человека, а в декабре 2015 года на международном саммите по геномному редактированию человека изменение гаметоцитов и эмбрионов для генерации наследственных изменений у людей было объявлено безответственным.
Российское сообщество генетиков в большинстве своем считает, что такие эксперименты на данный момент преждевременны и требуют более глубокого исследования и обсуждений.
«Вопрос клонирования уже давно стоит на горизонте. Этично ли выращивать клонов, чтобы потом забирать их органы для трансплантации человеку… Большой вопрос. Само собой, это абсолютно нормально, что нет единой точки зрения, ведь смысл подобных дискуссий как раз в том, чтобы найти правильные формулировки и отрегулировать потенциально спасительное, но при этом очень опасное знание», — говорит Алевтина Федина.
Страх неизвестности
Вариантов развития событий в области генной инженерии существует множество, и далеко не все они изучены и, в принципе, известны. Поэтому они должны быть последовательно зафиксированы и регламентированы.
Естественно, больше всего опасений вызывают плохие сценарии развития событий. Как правило, все начинается с помощи людям и изобретения новых лекарств. Но потом человек может прийти к желанию сделать своего ребенка светловолосым и зеленоглазым или создать армию универсальных солдат, не боящихся боли и не ведающих страха.
Олег Долгицкий, социальный философ, отмечает, что современное общество настолько неоднородно в культурном и экономическом плане, что любые методы, способные существенно изменить геном, могут создать условия не только для классового, но и видового расслоения, где представители «первого мира» смогут существенно продлевать свою жизнь и не бояться никаких болезней, в отличие от менее богатых людей. Это является серьезнейшей почвой для конфликтов и столкновений.
Эксперты убеждены, что генная инженерия — это будущее медицины. Возможность избавить младенца от пожизненного гнета заболевания, излечить людей от рака, найти лекарство против ВИЧ — за всем этим будет стоять генная инженерия. При этом желание человека изменить, например, цвет глаз или предотвратить наследственное заболевание, несмотря на все риски, будет только расти. И похоже, что остановить этот процесс уже не представляется возможным.
Молекулярное клонирование, или как засунуть в клетку чужеродный генетический материал
Молекулярное клонирование, или как засунуть в клетку чужеродный генетический материал
Клонирование овечек имеет лишь самое опосредованное отношение к молекулярному клонированию. На фоне овечки Долли показана плазмида phMYT1L-N106.
коллаж автора статьи
Автор
Редакторы
Статья на конкурс «био/мол/текст»: Огромное количество биологических исследований начинается с того, что в клетку вносится чужеродный генетический материал. Это действие называется молекулярным клонированием. С его помощью можно получить генетически модифицированные организмы, включить и выключить отдельные гены или определить роль конкретного белка в каком-нибудь процессе. Можно сказать, что молекулярное клонирование — это краеугольный камень, основа основ, фундамент, без которого множество замечательных методик было бы неосуществимо. Однако засунуть в клетку «неродную» ДНК не так-то просто: это длинный, трудоемкий и многоэтапный процесс. Молекулярному клонированию посвящены толстые книги, но, тем не менее, я попробую хотя бы немного рассказать о том, что это такое, и что нужно для того, чтобы все получилось.
«Био/мол/текст»-2011
Эта статья представлена на конкурс научно-популярных работ «био/мол/текст»-2011 в номинации «Лучшая обзорная статья».
Вставка
Раз мы собираемся вставлять в клетки какой-то ген, то самый первый, очевидный шаг, который нам нужно сделать, — этот ген как-нибудь получить, причем желательно в больших количествах (поскольку все методики несовершенны, бóльшая часть копий этого гена бесследно пропадет по дороге нецелевым способом). Чужеродный ген, вносимый в клетку, называется «геном-вставкой» или просто «вставкой». Получить его можно несколькими способами.
Во-первых, мы можем просто выделить его из того генома, к которому он принадлежит. Допустим для простоты, что наша вставка — это какой-нибудь ген слона. Тогда нам нужно:
Подробнее с методом ПЦР и другими основными молекулярно-биологическими методиками можно ознакомиться в статье «Важнейшие методы молекулярной биологии и генной инженерии»; с геномными исследованиями — в статье «Геном человека: как это было и как это будет». — Ред.
Во-вторых, вполне возможно, что нужный нам ген уже был выделен из генома слона и присутствует в библиотеке генов. Тогда нашу вставку можно будет получить оттуда (с этим, на самом деле, тоже придется повозиться, но меньше, чем в первом случае).
И наконец, в-третьих, не обязательно использовать в качестве вставки уже существующий ген. Если исследователь собирается работать с каким-нибудь геном, который является плодом его фантазии и не встречается в природе, то он может синтезировать его искусственно.
Вектор
Запускание в клетку «одинокой» вставки (то есть, гена самого по себе, безо всякого сопровождения) — дело совершенно бесперспективное. В клетке плавает множество расщепляющих ДНК ферментов (нуклеаз), которые с радостью набросятся на беззащитную вставку и разрежут ее на кусочки, в результате чего она бесславно исчезнет, не успев совершить ничего полезного, а клонирование провалится.
Поэтому, чтобы защитить вставку, ее встраивают в специальное «транспортное средство», которое называется вектором. В самом элементарном случае вектор — это просто последовательность ДНК, в которую вшивается наша вставка, и которая помогает ей не пропасть в клетке и выполнить свое предназначение. Существует несколько видов векторов, но среди исследователей самой большой (и заслуженной) любовью пользуется один из них — плазмиды. С них-то мы и начнем.
Плазмида
Плазмида — это довольно короткая и обычно кольцевая молекула ДНК, которая плавает в цитоплазме бактериальной клетки (зеленые кружочки на рис. 1). Плазмиды не связаны с бактериальной хромосомой, они могут реплицироваться независимо от нее, могут «выплевываться» бактерией в окружающую среду или, наоборот, из этой окружающей среды «проглатываться». С помощью плазмид бактерии обмениваются друг с другом генетической информацией, — например, передают соседям устойчивость к какому-нибудь антибиотику.
Рисунок 1. В бактериальной клетке наряду с бактериальной хромосомой плавает еще и множество плазмид.
рисунок автора статьи
Плазмиды существуют внутри бактерий в естественных условиях, поэтому никто не может помешать исследователю искусственно синтезировать плазмиду, которая будет обладать нужными для него свойствами, вшить в нее вставку (или несколько) и запустить в клетку. Плазмида — это, можно сказать, «болванка» для молекулярного биолога. Поэтому плазмиды стараются сделать как можно более универсальными и подходящими для всех случаев жизни.
Для того, чтобы из плазмиды получился рабочий вектор, она должна обладать некоторыми важными характеристиками.
Размножение
Прежде всего, плазмида обязательно должна в клетке размножаться, реплицироваться, потому что иначе она быстро подвергнется деградации, а вместе с ней исчезнет и ген-вставка. Для этого в ней должна быть специальная последовательность под названием «точка начала репликации», с которой и начинается удвоение ДНК. У разных видов живых существ эти точки имеют разную нуклеотидную последовательность. Поэтому, если мы хотим создать плазмиду, которая бы реплицировалась сразу в двух видах клеток (например, и в дрожжевых, и в бактериальных), то нам надо вставить в нее две точки начала репликации.
Разрезание
Кроме того, в ДНК плазмиды должны быть участки, в которых ее можно будет разрезать, чтобы вшить туда вставку. В качестве «ножниц» используются особые ферменты — рестриктазы. Они прекрасны тем, что режут ДНК не где попало, а в строго определенных местах, которые называются сайтами рестрикции (каждая рестриктаза распознает только свой сайт и только в нем (или возле него) разрезает ДНК). Обычно в плазмиду ставят множество разных сайтов рестрикции, расположенных в разных точках, — благодаря этому ее можно будет разрезать в нужном месте нужной рестриктазой. Участок ДНК, на котором собрано несколько сайтов рестрикции, называется полилинкером.
Селекция
Процесс, при котором бактерия «глотает» плазмиду, именуется трансформацией. В естественных условиях трансформироваться может в каждый момент времени не вся популяция бактерий, а только ее часть — компетентные клетки. Существуют лабораторные методы, с помощью которых можно искусственно увеличить количество компетентных клеток (некоторые из них описаны ниже в главе «Как засунуть вектор в клетки»), однако, все равно, стопроцентная компетентность для бактериальной культуры — вещь недостижимая.
Так что, добавляя плазмиду к бактериям, мы заранее должны смириться с тем, что бóльшая часть бактериальных клеток так и останется бесплазмидной, нетрансформированной. Поэтому нам придется отделять зерна от плевел, — то есть, трансформированные клетки от всех остальных. Для этого используется простой, но остроумный прием.
Допустим, мы встроили в нашу плазмиду ген устойчивости к какому-нибудь антибиотику (такой ген называется селективным маркером). Теперь клетки, которые «съели» плазмиду, будут неуязвимы для этого антибиотика и смогут спокойно жить в его присутствии. В результате, чтобы выделить из всех бактерий, к которым мы добавили плазмиду, те, которые смогли эту плазмиду использовать по назначению, нам достаточно будет добавить к бактериальной культуре соответствующий антибиотик. Те клетки, которые нам нужны, смогут существовать и делиться в присутствии этого антибиотика, а остальные этого делать не смогут.
Существуют и другие способы провести селекцию. Можно, например, поместить сайт рестрикции не внутрь гена антибиотика, а внутрь какого-нибудь «заметного» гена (скажем, такого, в присутствии которого бактериальные культуры меняют цвет). В результате можно будет отличить нужные колонии от ненужных просто на глаз, безо всяких манипуляций. По такому принципу работает, например, очень модная сейчас система бело-голубой селекции.
Если мы собираемся работать только на бактериях, то всем вышесказанным дело и ограничится. Однако если конечная наша цель — засунуть вектор в эукариотические клетки (например, клетки млекопитающих), то нам предстоит еще один этап селекции.
Дело в том, что в большинстве эукариотических клеток плазмиды живут недолго и быстро подвергаются деградации. Поэтому, даже если мы заставили клетку «съесть» плазмиду, не стоит питать надежды, что наша вставка теперь останется в этой клетке навсегда. Скорее всего, она успеет только немного поэкспрессироваться, прежде чем содержащий ее вектор будет пойман нуклеазой и разрезан на кусочки. Однако если вектор случайно смог встроиться в геном (это событие очень редкое, но не невероятное), то наша вставка, можно сказать, пустит в этой клетке корни — причем не только в ней самой, но и во всех ее потомках. И для того, чтобы выделить из всех клеток те, которые имеют вектор в своем геноме, нам понадобится еще один селективный маркер — ген устойчивости к какому-нибудь эукариотическому антибиотику (потому что бактериальные антибиотики, как правило, на клетки эукариот не действуют). Добавив соответствующий антибиотик (например, генетицин) к среде, в которой культивируются клетки, мы через некоторое время получим популяцию только тех клеток, в геноме которых сидит наш вектор.
Промоторы
Перед каждым рабочим геном находится короткий участок ДНК под названием промотор. Именно сюда прикрепляется фермент РНК-полимераза, который синтезирует РНК на матрице ДНК, что является первым и абсолютно необходимым этапом в экспрессии гена. Если у гена нет промотора, его экспрессию запустить невозможно, и он так и останется «молчащим». Можно сказать, что ген без промотора — это все равно, что машина без педали газа. Поэтому в нашей плазмиде обязательно должен быть хотя бы один промоторный участок, под контроль которого можно будет поставить ген-вставку.
А промоторы бывают разные.
Во-первых, они различаются по своей силе. Некоторые вызывают бурную транскрипцию подконтрольного гена, другие — совсем вялую.
Во-вторых, у прокариот и эукариот промоторы отличаются. Прокариотические промоторы не работают в эукариотических клетках и наоборот. Поэтому будет Ужасной Ошибкой поставить тот ген, который должен, экспрессироваться в бактериальных клетках, под эукариотический промотор — это все равно, что оставить его без промотора вообще.
В-третьих, у эукариот есть несколько типов РНК-полимеразы — они обеспечивают синтез различных видов РНК. И каждый тип РНК-полимеразы распознает только свои промоторы и «не видит» чужие. Поэтому, в зависимости от того, какую именно РНК кодирует наша вставка (например, матричную или, наоборот, шпилечную, а может, и вовсе рибосомальную), нам нужно подбирать и тип промотора, который мы будем ставить в плазмиду.
И, наконец, в-четвертых, разные промоторы включаются по-разному. Некоторые активны постоянно. Другие активизируются только при определенных условиях — например, при повышении окружающей температуры или появлении в клетке каких-то веществ. К тому же, у многоклеточных организмов в каждой ткани включены одни промоторы и выключены другие. Можно, например, подобрать такой промотор, который будет активен только в нейронах. Или только в нейронах головного мозга. Или только в нейронах головного мозга, относящихся к одному из подкорковых ядер. Или только в крохотной субпопуляции нейронов головного мозга, относящейся к одному из подкорковых ядер. И сужать этот круг можно почти до бесконечности.
Знание всего этого дает исследователю удивительную свободу. Подобрав в плазмиду подходящий промотор, он сможет творить с экспрессией гена-вставки почти все, что ему заблагорассудится. Ну, скажем, сделать так, чтобы он экспрессировался сильно, только в мышечных клетках и только в ответ на повышение температуры.
Трансляция белка
Засовывая вектор в клетку, ученый может хотеть двух разных вещей:
В первом случае вектор называется транскрипционным, во втором — экспрессионным. Экспрессионные векторы обычно немного сложнее транскрипционных, потому что в них присутствуют:
Итак, мы подобрали все необходимые для плазмиды кусочки. Но мало просто соединить их вместе — огромную роль играет их взаимное расположение. Например, сайты рестрикции должны быть не только многочисленны и разнообразны, но и находиться в «правильных» местах. При этом надо стараться, чтобы итоговая плазмида была как можно компактней, поскольку, во-первых, так она будет стабильнее, а во-вторых, охотнее «проглотится» клеткой. Одним словом, вы уже, наверное, поняли, что дизайн хорошей плазмиды — это тонкое и филигранное искусство (рис. 2).
Рисунок 2. Структура знаменитой плазмиды PBR322. В свое время это была, пожалуй, самая популярная плазмида во всем научном мире, а потом она стала основой для множества плазмид нового поколения. В ней есть участок начала репликации (ori), благодаря которому она может размножаться в клетках бактерии E. coli, гены устойчивости к двум антибиотикам — ампициллину (amp) и тетрациклину (tet), а также множество сайтов рестрикции (на самом деле их больше сорока, но здесь представлены только четыре — EcoRI, SalI, PstI, BamHI). Промоторные участки, к сожалению, не показаны, но они, разумеется, тут тоже есть. Некоторые сайты рестрикции находятся в генах устойчивости к ампициллину или тетрациклину, в результате чего и тот и другой сайт можно использовать в качестве второго селективного маркера. Например, если мы разрежем ген устойчивости к ампициллину с помощью рестриктазы PstI и вошьем в это место вставку, то тетрациклин будет первым селективным маркером, ампициллин — вторым, а селекция будет выглядеть так:
Если же мы вошьем вставку внутрь гена устойчивости к тетрациклину (разрезав его с помощью рестриктаз BamHI или SalI), то нам надо будет, наоборот, сначала посадить их на среду с ампициллином, а потом — с тетрациклином.
Плазмидные базы данных
За те несколько десятилетий, что существует методика молекулярного клонирования, были синтезированы тысячи разнообразных плазмид, из которых созданы базы данных (например, AddGene). В этих базах есть плазмиды на все случаи жизни — с разными типами точек начала репликации, разными полилинкерами, разными селективными маркерами и промоторами и так далее. Есть те, в которые можно вшить не одну вставку, а несколько, а есть даже такие, которые уже несут в себе некоторые особенно популярные вставки. Поэтому, как правило, исследователи не синтезируют плазмиду для клонирования самостоятельно, а покупают уже готовую. При необходимости купленную плазмиду можно «довести до ума», вставив или убрав определенные участки (а потом эту модифицированную плазмиду тоже добавить в базу данных). Иными словами, часто задача ученого сводится просто к тому, чтобы подобрать подходящую плазмиду.
Другие векторы
Плазмида — прекрасный вектор для относительно небольших вставок. Если ген-вставка слишком велик, то плазмида утрачивает стабильность, потому что ее участки начинают «перетасовываться» друг с другом и теряться при репликации, из-за чего она постепенно укорачивается. Поэтому в качестве вектора для длинных вставок используются более устойчивые конструкции. Например:
Вставляем ген в плазмиду
Допустим, исследователь подобрал подходящую плазмиду и получил нужную вставку. Теперь нужно соединить одно с другим, чтобы затем засунуть в клетки. Для этого достаточно совершить несколько простых действий.
Как уже говорилось, в плазмиде существует несколько сайтов рестрикции — то есть, участков, в которых ее может разрезать нужная рестриктаза. Нам нужно выбрать подходящий сайт, который будет находиться в том месте, куда мы собираемся вшивать вставку, а затем обработать плазмиду соответствующей рестриктазой.
После этого той же рестриктазой нужно обработать вставку, поскольку рестриктазы обычно оставляют выступающие концы на одной из нитей ДНК, и эти концы должны быть совместимы у вставки и плазмиды, чтобы они согласились соединиться. Если на кончиках вставки нет нужных сайтов рестрикции, то можно приделать к нему короткие ДНК-фрагменты с нужными сайтами рестрикции на концах.
И наконец, нам нужно соединить в одной пробирке плазмиду и вставку (предварительно очищенные от рестриктаз) и добавить к ним ДНК-лигазу, которая умеет лигировать (то есть, сшивать воедино) две молекулы ДНК. Конечно, в результате мы получим не только желанный вектор, в котором плазмида соединена со вставкой (назовем его чеширским котом с улыбкой), но и целый коктейль побочных продуктов — пустую плазмиду (кота без улыбки), замкнутую вставку (улыбку без кота), несколько сшитых между собой вставок (много улыбок) и так далее. В ходе селекции эти ненужные продукты отсеются, и у нас в руках останется только вектор.
Выделяем вектор
Итак, вначале мы проводим селекцию.
И вот мы получили ее — бактериальную культуру, в которой живет созданный нами вектор. Вполне возможно, что это и было нашей конечной целью, и теперь мы, спокойные и счастливые, можем, например, включить в бактериях экспрессию гена-вставки и пожинать урожай синтезированных в результате белков.
Но если нам нужен чистый вектор, который можно будет потом засовывать в другие клетки, то у нас появляется проблема, которая кажется неразрешимой. Как вызволить вектор из бактерий? Ведь даже если мы выделим из этих бактерий ДНК, то помимо вектора получим еще и совершенно ненужную нам бактериальную хромосому.
Тут можно воспользоваться тем, что плазмидная ДНК имеет важные отличия от хромосомной: она, во-первых, гораздо меньше по размеру, а во-вторых, гораздо больше суперскручена. Поэтому можно подобрать такие условия, в которых бактериальные хромосомы будут осаждаться, в то время как плазмиды останутся плавать в растворе. Достаточно будет отцентрифугировать получившийся осадок (чтобы вся бактериальная ДНК прочно «упала на дно»), а затем уже из надосадочной жидкости выделить нашу плазмиду (обычно для этого используются специальные колонки, которые очень облегчают и ускоряют работу).
Как засунуть вектор в клетки
И вот наступил желанный миг. Исследователь держит в руке пробирку, в которой плещется прозрачная жидкость — столькими трудами полученный вектор. И тут перед ним встает преграда. Клетки, в которые он собирается засунуть свой вектор, отказываются его глотать.
Дело в том, что липидная мембрана, которой окружены клетки, обладает избирательной проницаемостью — то есть, она пропускает через себя одни частицы и не пропускает другие. Крупные заряженные молекулы (а именно таковой и является ДНК) через эту мембрану самопроизвольно пройти не могут. И если бактерии, например, умеют проглатывать плазмиды из внешней среды (как уже было сказано выше), то, скажем, клетки животных к этому совершенно не склонны. Поэтому для того, чтобы засунуть в клетку вектор, исследователю приходится прибегать ко множеству хитростей, о которых и будет сейчас рассказано. Но сначала — немного терминов.
Для внесения в клетку вектора есть несколько обозначений в зависимости от того, какой используется вектор и в какие клетки он вносится.
Эти термины, в общем, не очень строгие. Например, даже в некоторых солидных статьях трансдукцию иногда называют вирусной трансфекцией (а то и просто трансфекцией).
Вещества-проводники
Самый простой и очевидный путь внесения в клетку генетического материала — соединить вектор с каким-нибудь переносчиком, у которого нет проблем с проникновением через мембрану, и позволить получившемуся комплексу пролезть внутрь клетки. Это не отнимает много времени и не требует дорогостоящего оборудования. Такой способ обычно называют химической трансфекцией. В этом случае события развиваются по следующему сценарию:
К сожалению, почти на каждом из этих этапов возникают трудности. Во-первых, клетки захватывают далеко не все плавающие вокруг них комплексы. Во-вторых, не факт, что, оказавшись внутри клетки, вектор отделится от переносчика — вполне возможно, что они так и будут в обнимку плавать в цитоплазме, пока не подвергнутся деградации. В-третьих, даже если какой-то редкий комплекс умудрился проникнуть в клетку и там развалиться, это означает, что помимо вектора в клетке оказывается еще и переносчик, который может быть токсичен, вызывать побочные эффекты и вообще «замыливать» результаты экспериментов. И, наконец, в-четвертых, только небольшая часть вектора, оказавшегося внутри клетки, сможет проникнуть в ядро. Иными словами, комплексы вектора с переносчиком надо добавлять к клеткам в огромном избытке, чтобы хотя бы маленькая часть из них выполнила свое предназначение.
Утешает то, что среди производителей веществ-переносчиков огромная конкуренция, и поэтому на рынке постоянно появляются новые составы с улучшенными свойствами, которые минимизируют вышеописанные трудности. У каждого из составов есть какая-то своя «фишка», которая дает ему преимущество в конкурентной борьбе — некоторые образуют с вектором такие компактные комплексы, которым гораздо легче пробраться внутрь клетки; другие эффективнее отделяются от вектора, оказавшись в цитоплазме; третьи более универсальны и работают на огромном количестве типов клеток; четвертые, наоборот, славятся своей избирательностью и проникают только в те клетки, которые, например, экспрессируют какой-то специфический рецептор. Одним словом, если исследователь решил засунуть вектор внутрь клетки с помощью химической трансфекции, то ему просто надо выбрать из множества составов, представленных на рынке, тот, который будет лучше работать в данном конкретном случае.
Дырки в мембране
Но некоторые клетки так привередливы и капризны, что в принципе не соглашаются глотать комплексы ДНК с переносчиком (таким скверным характером славятся, например, первичные клетки — то есть, те, которые не выращивались в культуре, а были получены непосредственно от живого организма). Чтобы ввести в эти клетки генетический материал, ученому приходится прибегать к грубой силе — продырявливать мембрану и засовывать ДНК в образовавшиеся отверстия. Этот жестокий подход называется физической трансфекцией; он очень травматичен для клеток, и только некоторые из них переживут столь неделикатное обращение. Поэтому применять данную методику стоит, только если вы точно уверены, что обладаете достаточным количеством клеток и можете пожертвовать бóльшей частью из них. Ну и к тому же, вам потребуется довольно дорогое оборудование.
Наверное, самый распространенный способ продырявливания мембраны называется электропорацией. Дело в том, что у клеток, попавших в электрическое поле, в мембране возникают отверстия (которые получаются тем больше, чем сильнее приложенное к клеткам поле). Если эти отверстия малы, то клетка сможет «залечить» их; если же они слишком велики, то клетка погибнет из-за необратимого нарушения целостности мембраны. Поэтому эмпирическим путем можно подобрать оптимальную величину поля для того, чтобы клетки, с одной стороны, продырявились, а с другой — остались в живых. А когда клетки продырявлены, то добавленный к ним вектор проникает сквозь отверстия и оказывается в цитоплазме.
Кроме электропорации, есть еще несколько способов — экзотических и не очень — сделать в мембране дырки. Например, с помощью:
Ну и наконец, для самых непокорных клеток, которые не поддаются никакой из вышеописанных методик, существует прибор под названием «генная пушка». Генная пушка расстреливает упрямые клетки частичками металла (обычно используется золото) с присоединенным к ним вектором. (Источником вдохновения для изобретателей этого прибора послужил пневматический молоток.) Генная пушка подходит практически для всех типов клеток, включая растительные, окруженные твердой клеточной стенкой, которая является практически непреодолимой преградой для большинства других методик.
А вообще, почти все вышеописанные методики дают более-менее похожие результаты на большей части типов клеток, а приборы для них стоят дорого. Поэтому, как правило, лаборатория покупает прибор для какой-то одной методики, и дальше уже по этой методике и доставляет генетический материал в клетки.
Овечки в волчьей шкуре
Зачем придумывать новые и трудные пути засовывания в клетку нуклеиновых кислот, если можно воспользоваться теми элегантными способами, которые за время долгой эволюции изобрели существа (или, возможно, вещества; нельзя точно сказать, живые они или нет), для которых транспортировка своего генетического материала внутрь клетки является необходимой фазой жизненного цикла? Все, наверное, уже догадались, что речь идет о вирусах.
Вирусы — это молекулы ДНК или РНК, упакованные в белковую оболочку (а иногда завернутые в липидный слой со встроенными в него вирусными белками). Именно оболочка играет главную роль в проникновении вируса через клеточную мембрану. Поэтому если засунуть в эту оболочку невирусную нуклеиновую кислоту, то она, будто вирус, тоже сможет попасть в клетку — как овечка, одетая в волчью шкуру. На этом принципе и основано использование вирусных векторов. Пожалуй, вирус — это самое эффективное транспортное средство для доставки в клетку генетического материала. Но приготовление вирусных векторов очень хлопотно, долго и трудоемко. Да вы сейчас и сами увидите.
Итак, чтобы сделать вирусный вектор, нужно для начала подобрать подходящий вирус. Идеальный кандидат:
К сожалению, идеал недостижим, и ученым приходится выбирать из того, что есть. А именно:
Ретро
Ретровирусы долгое время были самой популярной основой для векторов. Это РНК-содержащие вирусы, которые, оказавшись в клетке, синтезируют ДНК на основе своей РНК с помощью ревертазы (собственно, поэтому они и называются «ретро», ведь синтез ДНК на основе РНК — это, в каком-то смысле, шаг назад). Ретровекторы хорошо выполняют свое предназначение, то есть, стабильно доставляют в клетку заключенный в них генетический материал, но у них есть несколько недостатков, из-за которых работать с ними неудобно.
Во-первых, они все (за одним исключением, о котором скоро будет рассказано) способны инфицировать только делящиеся клетки. Поэтому если исследователь, например, собрался изучать нейроны, которые не склонны к делению, ему надо забыть о ретровекторах и начать искать что-нибудь другое.
Во-вторых, ретровирусы встраиваются в самые непредсказуемые участки генома, каждый раз разные, и это приводит к самым непредсказуемым последствиям. Для начала, из-за этого нарушается воспроизводимость экспериментов — но это еще ладно. Беда в том, что ретровектор может вклиниться в середину какого-нибудь важного гена, из-за чего этот ген выключится, а в клетке начнутся патологические изменения, которые могут довести ее до гибели. Или, наоборот, ретровектор может случайно включить какой-нибудь совершенно ненужный ген, например, онкоген, что также приведет к очень печальным результатам (особенно если исследования проводятся не на культуре клеток, а на живом организме, и особенно если этот организм — человеческий).
Эти недостатки отвратили сердца ученых от ретровекторов и заставили их искать что-нибудь более подходящее. И найти кое-что замечательное удалось прямо внутри ретровирусного семейства.
Ленти
Лентивирусы — это род ретровирусов, который отличается от прочих представителей своего семейства некоторыми приятными с точки зрения молекулярного клонирования чертами.
Прежде всего, лентивирусы умеют заражать не только делящиеся, но и неделящиеся клетки. Эта особенность ужасна с точки зрения врача, который лечит вызванное лентивирусом заболевание, и прекрасна с точки зрения молекулярного биолога, который делает на основе лентивируса лентивектор. Ведь работая с таким вектором, ученый сможет использовать гораздо более широкий ассортимент клеточных типов, а значит, сделать гораздо больше великих открытий.
Плюс к тому, лентивекторы довольно емкие, то есть, они способны вместить в себя крупные вставки. Отчасти это связано с тем, что из их генома в целях безопасности выкидывается бóльшая часть, и в результате освобождается куча места. Ну и кроме того, лентивирусы встраиваются в чуть менее непредсказуемые участки генома, чем прочие ретровирусы, а это тоже очень здорово.
«Ленти» по латыни значит «медленный». Это слово очень точно отражает характер лентивирусов — они вызывают заболевания с необычайно длинным инкубационным периодом. Вирус СПИДа — это тоже, кстати, лентивирус.
Адено
Аденовирусы, наряду с ретровирусами, долго были самой популярной основой для векторов, но теперь потихоньку сдают свои позиции. Аденовирусы способны заражать не только делящиеся, но и неделящиеся клетки; ассортимент клеточных типов, которые они заражают, довольно широк. Но они не встраиваются в хозяйский геном, и поэтому подходят не для всех экспериментов. Кроме того, аденовирусы часто вызывают сильный иммунный ответ. Поэтому все чаще они используются не в базовых исследованиях, а для всяких прикладных целей — например, для создания вакцин.
И наконец, относительно недавно на сцене появился новый персонаж, который сразу расположил к себе ученых множеством чудесных качеств. Зовут его аденоассоциированный вирус (AAV).
AAV ведет себя настолько тихо, скромно и ненавязчиво, насколько этого вообще можно ждать от вируса. Практически единственное, что он делает, оказавшись в клетке, — это встраивается в хозяйский геном, причем почти всегда не в первое попавшееся, а в строго определенное место. Он, судя по имеющимся сейчас данным, не вызывает никаких заболеваний, поэтому и иммунный ответ на него очень слабый. К тому же, он способен заражать и делящиеся, и неделящиеся клетки. Одним словом, AAV — просто идеальная основа для вектора, хотя и он не лишен некоторых недостатков. И главный его недостаток — малая емкость. В AAV-вектор могут влезть только совсем небольшие вставки, и в этом он очень проигрывает, например, лентивекторам.
Кроме того, AAV — дефективный, несамостоятельный вирус. Он может размножаться только в клетках, которые уже заражены аденовирусом (что и отражено в его названии). Это совсем неплохая черта, если мы хотим заразить нашим вектором культуру клеток; но если мы собираемся делать вектор для генной терапии (методики лечения генетических (и не только) заболеваний, при которой организм заражается вирусным вектором, несущим необходимые этому организму гены), то такая дефективность будет нам очень мешать, потому что вирусы не смогут как следует распространяться по организму. Однако сейчас эта проблема решена, и разработаны AAV-векторы, которые способны размножаться сами по себе, безо всякой помощи.
Но вот подходящий вирус подобран. Теперь начинаются игры с его геномом.
Теперь у нас возникает небольшая проблема. Даже засунув эту плазмиду в клетку, никаких вирусов мы не получим, потому что мы уже выкинули (в пункте 1) те гены, которые нужны для их создания. Поэтому нам придется пойти на маленькую хитрость.
Мы засунем в клетки не одну плазмиду, а две. Первая, основная (назовем ее Пу), — это та, которую мы получили в пункте 3. А вторая, вспомогательная (назовем ее Ме), будет нести гены, которые мы выкинули в пункте 1. Обе плазмиды начнут размножаться в хозяйской клетке. Плазмида Ме будет экспрессировать свои белки — например, белки оболочки и белки, необходимые для самосборки вирусов. Поскольку на Пу есть участки для налипания белков оболочки, то эти белки на нее и налипнут, и в результате мы получим вирус с необходимыми генами внутри, чего мы и добивались.
Итак, наш план действий таков:
Это, конечно, только общая схема, у каждого конкретного вектора есть свои нюансы. Например, бывает, что вместо одной вспомогательной плазмиды используют две или даже три. При создании некоторых AAV-векторов упаковывающие клетки нужно заразить аденовирусом. А если мы создаем вектор для генной терапии, который должен уметь размножаться в хозяйской клетке и заражать ее соседей, то нам придется гораздо аккуратнее обращаться с вирусным геномом и расчищать в нем место с большой осторожностью, чтобы не нарушить способность вирусов к самостоятельному размножению. И так далее.
Последний шаг
Итак — ура! — тем или иным способом мы все-таки умудрились засунуть вектор в клетки. Нам остается последний шаг — нужно выбрать из всех клеток те, которые встроили векторную ДНК в свой геном.
Собственно, для этого мы и добавили в вектор последний селективный маркер — ген устойчивости к антибиотику, работающему на эукариотических клетках. Мы просто будем постоянно добавлять этот антибиотик в среду, в которой находятся наши клетки, — в результате останутся в живых и смогут делиться только те, которые имеют в геноме этот ген и всю нашу векторную ДНК впридачу.
Все! Клонирование завершено. Мы получили линию генетически модифицированных клеток, в геноме которых присутствует наша вставка. Пришло время проводить с этими клетками необходимые эксперименты.