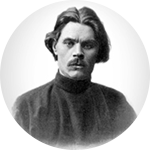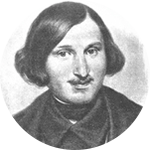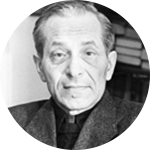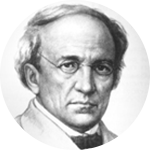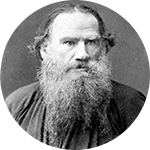кто виноват и что делать кто написал
Извечный вопрос. Часть 2
На Руси всегда особо остро ставились два вопроса:
Кто Виноват? и Что делать?
Несмотря на уровень знаний, образования, жизненного опыта, каждый русский рано или поздно становится философом и богословом в момент поиска ответов на эти вопросы если ищет их через Евангелие. Правильный ответ на первый вопрос даст ответ на второй, поэтому если неправильно ответить на него, то будет избран неверный путь решения.
Если не верно начать поиск ответа на второй вопрос, то это приведет к конфликтам и ссорам, перетекающим в революции, а затем и в гражданские войны. Этот опыт уже был.
Два этих извечных русских вопроса — как ветхий и новый заветы русского народа.
Если мы начинаем с поиска ответа на первый вопрос, то присваиваем себе право судить, право которое принадлежит только Богу, поэтому ответ нам следует искать в Новом Завете, т.е. в поиске ответа на второй вопрос.
И именно в Евангелии мы обретаем правильный ответ на второй вопрос.
Что делать — Покайтесь. Вот ответ.
Решение второго вопроса дает нам ответ на первый вопрос, т.е. говорит о том Кто виноват?. Т.е. выходит, что виноваты во всем мы сами. Тот же самый ответ оказывается давался и в Ветхом Завете:
Что делать, говорит Бог ниневитянам через пророка Иону и они, обратившись от злых дел, обретают спасение.
Итак, ответ на вопрос «Что делать?» говорит нам еще и о воле Того, Кем мы сотворены.
Мне не хочется никого обвинять или защищать, но прямо теперь, в эти дни, происходит подмена.
Власть уходит от ответственности. Государственная власть указывает что делать народу и власти духовной, но при этом уходит от ответственности через подмену: на указах и постановлениях нет законных подписей, дат, печатей. Но при этом есть силовое принуждение.
Власть уходит от ответственности защиты народа, его обеспечения, но продолжает поборы и обложение штрафами.
Духовная власть уходит от ответственности перед Богом и Святой Церковью и начинает служить «богу и маммоне».
Гражданская власть народа, видя как духовная власть принимает Кесарево туда где должно быть только Божие, в итоге указывает что делать властям духовным и это может привести к новым расколам общества.
Но каждый должен нести еще и свою ответсвенность, в том числе и персональную и коллективную.
Начинаем со второго вопроса. С Нового Завета.
Что делать? — Спасаться.
Кто виноват? — Грех.
Что делать? — Прощать.
Кто виноват? — Гордость.
Что делать? — Объединяться.
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table. MsoNormalTable
Вопросы попроще, так сказать, бытовуха — где платок?! молилась ли ты на ночь? — тоже не оставались безответными. Платок — утерян (найдётся — поздно, уж помолилась…) Укройте вид трагического ложа…
Вопросы, да, извечные, но справедливости ради нужно сказать, что вопрос «Кто виноват?» на 17 лет старше вопроса «Что делать?». Герцен опубликовал свой роман в 1846 году, когда Чернышевскому было 18 лет и он только-только ступал на стезю революционности, как пушкинский гусь на красных лапках на первый лёд.
Читал ли Чернышевский роман Герцена? Конечно, читал, тогда все всё читали, не так уж много книг выходило. Некоторые читали даже с карандашом в руках, как например, историк литературы, критик и страстный ревнитель за чистоту русского литературного языка Степан Петрович Шевырёв, который после «Кто виноват?» придумал термин «искандеризмы», но об этом позже.
Оказал роман «Кто виноват?» влияние на Чернышевского? Да, Чернышевский развил идею Герцена: женщина имеет право сама определить своё положение в обществе и семье, тем более что к 1863 году это право «назрело» ещё больше. Так что среди «новых людей», которым посвящён роман «Что делать?» Чернышевский выводит и женщину. (Я сейчас оставляю за скобками дичайший стиль Чернышевского и адский язык романа. Когда на одной странице 7 раз можно встретить слово «миленький» и прочие «диванчики» с «кроватками» и «цветочками». Поэтому легко! соглашаемся с самим автором, хоть он и кокетничает и вроде как пишет не всерьёз в предисловии — «У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо…»)
У Герцена нет «новых людей», есть «бесполезный человек» Бельтов — Герцен тяготеет к Пушкину. Прекрасно одарённый от природы, Бельтов скучает, как Онегин, не знает, чем заняться и куда приложить свои силы; в глухой губернии влюбляется в незаурядную замужнюю женщину; она, как Татьяна любит его, но не может оставить безвольного мужа. Бельтов страдает и уезжает, героиня страдает и угасает в чахотке, муж страдает и потихоньку спивается… Кто виноват? Да никто. «А случай сей за неоткрытием виновных предать воле божией, дело же, почислив решённым, сдать в архив. Протокол«… (Любопытства ради — первый псевдоним у Плеханова был Бельтов).
Но самое главное: «Кто виноват?» — первостатейное художественное произведение, в котором есть и лирика, и ироничный юмор, и сатира, и публицистика, и всё это — превосходным литературным языком. Так почему же в школе не заставляли читать «Кто виноват?», а чморили снами томящейся своим фиктивным положением жены Веры Павловны, достойных толкования доктора Фрейда, а не школьников, хоть и «старшего школьного возраста»? Об этом — в «Выводах».
Белинский был в восторге от «Кто виноват?», он писал Герцену «Умри, Герцен!», заимствовав исторический анекдот про реакцию князя Григория Потёмкина на «Недоросля» Фонвизина — Умри, Денис, лучше не напишешь!
Может, Белинскому ещё и потому так нравился роман Герцена, что один из главных героев — учитель Круциферский был (как и великий критик) сыном уездного лекаря, бедного, но честного. Все несчастья лекаря Круциферского и ненависть к нему губернатора начались с того, что он не дал свидетельства о естественной смерти засечённому кучеру одного помещика.
В прошлом посте я писала о «деле помещицы Давыдовой» и о том, что отец Белинского — лекарь Белынский не нашёл признаков насильственных действий и скрыл в своём свидетельстве, что помещица Давыдова забила беременную крепостную. Так что продолжаю свои подозрения про Белинского, начатые в прошлом посте. Кто знает, может Белинский рассказывал Герцену про своего отца и дело Давыдовой? Только рассказал всё наоборот? Тем более что с 1828 года, когда об этом громком деле писали в Пензенской губернии, много воды утекло. И лекарь Белынский давно уже умер. И Белинский умрёт через два года после выхода романа «Кто виноват?». А жаль. Было бы интересно, что бы он написал по поводу «Что делать?»…
Выводы, или Нет, что-нибудь полегче…
Кино вообще — страшная сила, как красота у Достоевского, а советское кино 1960-х было силой созидательной: сеяло разумное, доброе, вечное. Стоило показать в фильме «Берегись автомобиля», что положительный герой, мешковатый незлобивый Деточкин читает «Гамлета», как интерес к Шекспиру после фильма начинал зашкаливать.
Примечательно, что в кино читает Герцена обычная учётчица Надя (она потом ещё и к Виссариону Григорьевичу подогреет интерес, с самозабвением прочитав наизусть на вступительном экзамене — Любите ли вы театр?). И всё это не было киношной натяжкой: «Былое и думы» тогда были практически в каждой нормальной семье. Равно как и «Что делать?» Чернышевского, которого проходили в школе; в выходных данных к этому роману «о новых людях» так и приписывали «Для старшего школьного возраста».
Но «Былое и думы» — это поздний Герцен, своего рода исповедь о себе и времени, подведение итогов. А «Кто виноват?» — его блестящий дебют в художественной прозе, до этого он писал научно-исследовательские и публицистические статьи.
1. что декабристы разбудили Герцена и он до чрезвычайности увлёкся борьбой с царизмом. А мог бы написать больше романов и повестей, чем он написал. У него это получалось много лучше, чем у Чернышевского.
2. что Ленина в своё время роман Чернышевского «перепахал». Об этом пишет один из биографов Ленина Валентинов. Ленин про «Что делать?»:
«Он увлёк моего брата, он увлёк и меня. Он меня всего глубоко перепахал… Эта вещь, которая даёт заряд на всю жизнь».
Ну, лучше бы Ленина перепахал какой-нибудь другой роман, как говорил герой известного фильма — лучше бы я улетел в другой город… Потому что после такого вдохновляющего и направляющего ленинского отзыва у советских школьников не оставалось надежд. Перед ними открывались врата с начертанным на них «Что делать?»…
В 1848 году С. Н. Шевырёв напечатал в журнале «Москвитянин» «Словарь солецизмов, варваризмов и всяких измов современной русской литературы», открывая словарь «искандеризмами»: «он унаследовал от отца удачу во всех его предприятиях», «попадья была непроходима глупа», «он занимался бессистемно», «возбуждённость мысли», «распущенность».
Я тоже пробежалась с карандашом (будто бы по заданию профессора Шевырёва) и кое-что выписала: «оконтузил письмом», «просасывающееся довольство», «сбрызгу поговорить», «чебурахнулись в ноги», «сильно причёсанные», «поощрительные толчки»…
В качестве постскриптума
Оказывается, выражение «загнивающий Запад» принадлежит как раз С. П. Шевырёву. Я всегда думала, что это пропагандистское клише советских времён. Нет. Впервые прозвучало аж в 1841 году в его статье «Взгляд русского на образование Европы». «В наших искренних дружеских тесных отношениях с Западом мы не замечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг. Мы не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет».
Эту мысль Шевырёв повторил в нескольких статьях, после чего некоторые его оппоненты стали называть его «помешанным на гниющем Западе». В полемику с профессором Шевырёвым вступил (догадываемся с первого раза) Белинский. В нескольких статьях он резко (а то!) отвергает «мысль о нравственном гниении Запада» и мнимом «трупе Запада», пишет — «Европа больна — это правда, но не бойтесь, чтоб она умерла…». Спор этот, разумеется, ничем не кончился, каждый остался при своём.
Продолжу; буду в тренде — пора на сцену выйти женщинам…
ГАДАНИЕ ПО КЛАССИКАМ
Русские писатели о судьбах России
Кто виноват? Что делать? Кому на Руси жить хорошо? Ответов на эти вечные вопросы как не было, так и нет. И потому мы решили узнать истину с помощью тех, чье мнение в нашей стране всегда авторитетно, ведь поэт и писатель в России — сами знаете кто.
На спиритический сеанс в редакцию «Собака.ru» прибыли два с лишним десятка классиков русской литературы и выдающихся мыслителей. Разговор о насущном с потусторонним миром касался трех тем: будущего России, ее связей с Западом и все возрастающей самоизоляции, а также отношений интеллигенции и народа. За круглым столом собрались представители всего политического спектра и самых разных литературных течений.
О БУДУЩЕМ РОССИИ
Начнем с вопроса, ставшего популярным в конце восьмидесятых годов XX века и сохранившего актуальность в наши дни: «Что же будет с родиной и с нами?».
Максим Горький: Совершенно чуждый национализма, патриотизма и прочих болезней духовного зрения, все-таки я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым, своеобразным. Даже дураки в России глупы оригинально, на свой лад, а лентяи — положительно гениальны. Я думаю, что когда этот удивительный народ отмучается от всего, что изнутри тяготит и путает его, когда он начнет работать с полным сознанием культурного и, так сказать, религиозного, весь мир связующего значения труда — он будет жить сказочно героической жизнью и многому научит этот и уставший, и обезумевший от преступ-лений мир. («Заметки из дневника» М. Горького)
М. Е. Салтыков-Щедрин (саркастически) : Предполагается, что жизнь со всеми «сыграет штуку». Одних — «образумит» окончательно, других — ежели и не «образумит», то заставит глотать «бредни», притворяться, подплясывать, произносить вымученные, исполненные антибредней professions de foi [программы (франц.)]. Именно сама жизнь это сделает, а совсем не околоточные. Жизнь испуганная, перевернутая вверх дном, замученная, мечущаяся под гнетом паники. А мы с вами будем сидеть и радоваться… А второе нынешнее правило: не стеснять действий, кои бесспорно человеческому естеству свойственны. Как например: пить чай с филипповскими калачами, ходить по улице, даже не имея уважительных для передвижения причин, и т. п. А так как мы с вами именно только такие действия и совершали, то никто нас в бараний рог и не согнул: пускай гуляют. («Письма к тетеньке» М. Е. Салтыкова-Щедрина)
Хм, сформулируем вопрос иначе: поднимется ли Россия с колен?
Д. С. Мережковский (возбужденно бормочет) : Все человечество в наши дни — под ношею крестною, но на России сейчас — самый острый край креста, самый режущий. Глубина неутоленного страдания — глубина наполненной чаши. Никогда еще не подымало человечество к Богу такой глубокой чаши, как в наши дни, и эта чаша — Россия. Россия гибнущая, может быть, ближе к спасению, чем народы спасающиеся, распятая — ближе к воскресению, чем ее распинающие. («Царство Антихриста» Д. С. Мережковского)
Салтыков-Щедрин, выпускник Царскосельского лицея, в наказание за вольнодумие сосланный в Вятку, уже через десять лет после этого дослужился до должности рязанского вице-губернатора.
Тогда еще проще: будем ли мы счастливы при нашей жизни?
Д. И. Писарев: Счастье завоевывается и вырабатывается, а не получается в готовом виде из рук благодетеля. И самая трудная часть задачи состоит именно в том, чтобы составить себе понятие о счастье и отыскать себе ту дорогу, которая должна к нему привести… («Роман кисейной девушки» Д. И. Писарева)
(Хармс убегает из-за стола, все с удивлением смотрят ему вслед.)
Воцарятся ли в России когда-нибудь закон и порядок?
А. С. Пушкин: С одним буквальным исполненьем закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуды не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрыпка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, «верховодец верховного согласья»! (Письмо А. С. Пушкина к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года)
Но почему в России всегда и во всем бояре виноваты, а царь ни при чем?
Н. В. Гоголь: Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшною ответственностью за них перед Богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданьями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самых развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, тот может быть уподоблен древнему Боговидцу (пророку Моисею. — Прим. ред. ), может, подобно ему, разбить листы своей скрижали, проклявши ветрено-кружащееся племя, которое суетно скачет около своих же, от себя самих созданных, кумиров. («Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя)
А как должен вести себя идеальный правитель?
М. Е. Салтыков-Щедрин (иронически) : Градоначальник никогда не должен действовать иначе, как через посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд суть такие же меры внутренней политики, как и экзекуция. Обыватель всегда в чем-нибудь виноват, и потому всегда же надлежит на порочную волю его воздействовать. («История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина)
Нет ли ощущения какой-то надвигающейся катастрофы? Ну, например: наступит глобальное потепление и что тогда станет с Петербургом?
Н. В. Устрялов (делая жест в сторону А. С. Пушкина):
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия…
И кажется ныне, что глубокий смысл таится в этом сравнении и страшное пророчество… «Неколебимо, как Россия…»
Ужели и в самом деле неразрывны судьбы России с судьбами этого странного, жуткого и вместе с тем все же прекрасного, мистически неповторяемого, единственного города.
Есть в нем какой-то особый, сверхэмпирический лик, яркий при всей его эмпирической туманности, одухотворенный при всей его эмпирической бездушности. И недаром его или обожают до поклонения, или ненавидят до неистовства… («Судьба Петербурга» Н. В. Устрялова)
А если перейти к менее драматическим прогнозам. Как изменятся люди и мода через …дцать лет?
Н. Я. Данилевский (наставительно): Теперешние моды, например, суть применения французского вкуса и понятий об изящном к жизненным потребностям; поэтому в так называемых articles de Paris (предметы роскоши. — Прим. ред. ) и вообще в модных товарах Франция будет иметь перевес над прочими странами — даже не потому, чтобы эти изделия французской промышленности были в самом деле наилучшими в своем роде (это может быть, но может и не быть), а по одному тому уже считаются они везде лучшими, что они французские. («Россия и Европа» Н. Я. Данилевского)
Волнующая всех тема: что будет с рублем и его курсом?
М. М. Зощенко: Мы живем в удивительное время, когда к деньгам изменилось отношение. Этот могущественный предмет до сей славной поры с легкостью покупал все, что вам было угодно. Он покупал сердечную дружбу и уважение, безумную страсть и нежную преданность, неслыханный почет, независимость и славу и все, что имелось наилучшего в этом мире. Но он не только покупал, он еще, так сказать, имел совершенно сказочные свойства превращений. И, например, обладательница этого предмета, какая-нибудь там крикливая подслеповатая бабенка без трех передних зубов, превращалась в прелестную нимфу. И вокруг нее, как больные, находились лучшие мужчины, добиваясь ее тусклого взгляда и благосклонности. Полоумный дурак, тупица или полный идиот, еле ворочающий своим косноязычным языком, становился остроумным малым, поминутно говорящим афоризмы житейской мудрости. Пройдоха, сукин сын и жулик, грязная душонка которого при других обстоятельствах вызывала бы омерзение, делался почетным лицом, которому охота была пожать руку. Вот в кого превращались обладатели этого предмета. И вот, увы, этому магическому предмету, слишком действовавшему на наше мягкое, как воск, воображение и имеющему столь поразительные свойства, достойные сказки, нанесены у нас тяжелые раны. И что из этого будет и получится, лично нам пока в полной мере и до конца неизвестно. Однако мы думаем, что ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет. И, быть может, счастье еще озарит нашу горестную жизнь. («Голубая книга» М. М. Зощенко)
Писарев, революционный демократ, который четыре года провел в Петропавловской крепости, будучи критиком-шестидесятником, считал Пушкина, Лермонтова и Гоголя пройденной ступенью.
Гоголь, начинавший с насыщенных бытовыми подробностями и юмором «Вечеров на хуторе близ Диканьки», закончил встречами со священником, который обвинял его в недостаточном благочестии, требовал «отречься от Пушкина» и уничтожить второй том «Мертвых душ.
Устрялов, философ, член партии кадетов, в эмиграции ставший идеологом сменовеховства, национал-большевизма и апологетом Сталина, вернулся в СССР и был расстрелян в 1937-м.
Данилевский, еще один воспитанник Царскосельского лицея, попал в Петропавловскую крепость по делу петрашевцев, но был оправдан, став к концу жизни заклятым врагом дарвинизма и идеологом панславизма.
Бердяев, философ-экзистенциалист, в юности отчисленный из Киевского университета за участие в студенческих беспорядках, сосланный в Вологду и напечатавший свою первую статью в марксистском журнале Neue Zeit, стал критиком мировоззрения революционной интеллигенции и в 1922 году был выслан из СССР на знаменитом «философском пароходе».
Хармс, сын народовольца, сосланного на Сахалин и ставшего духовным писателем, сам вошел в состав литобъединения ОБЭРИУ, зарабатывал на жизнь стихами и рассказами для детских журналов «Чиж», «Еж» и «Сверчок», был арестован по доносу в августе 1941 года за пораженческие настроения и умер от голода в психбольнице в первую блокадную зиму.
РОССИЯ И МИР
Вопрос, который волнует всех: помирятся ли когда-нибудь русский Иван Иванович с украинцем Иваном Никифоровичем?».
Ф. М. Достоевский: России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море. России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае. («Дневник писателя» Ф. М. Достоевского)
А. П. Чехов (кивает и подхватывает) : Хохлы упрямый народ; им кажется великолепным все то, что они изрекают, и свои хохлацкие великие истины они ставят так высоко, что жертвуют им не только художественной правдой, но даже здравым смыслом. (Письмо А. П. Чехова к А. С. Суворину от 18 декабря 1893 года)
И кто же в результате всего этого победит?
Л. Н. Андреев: Я не утверждаю самонадеянно, что у нас будет победа. Но я говорю: нам нужна победа, как никому из ныне борющихся. Победу или почти верную гибель всего русского народа — вот что несет нам неизвестное будущее… Но мы чувствуем каждою частицею души нашей и то, что вне победы — для нас нет спасения. И мы будем драться, будем еще дальше и дальше влачить наше темное существование, ибо вне победы — для нас нет спасения. Не будем загадывать о конце всех этих ужасов: ведь все равно загрызем друг друга от самопрезрения и ненависти, если останемся живы, но биты. Нас много погибло и еще много погибнет, но что ж. Наденем на себя гробы и станем у разверстой могилы, куда уже ушло столько наших любимых, но ядовитого мира из рук «победителя» не примем! Это — не слова, это — голос самой души России: вне победы для нас нет спасения. («Горе побежденным» Л. Н. Андреева)
Итак, весь этот абсурд надолго?
Н. А. Бердяев: В истории, как и в природе, существуют ритм, ритмическая смена эпох и периодов, смена типов культуры, приливы и отливы, подъемы и спуски. Говорят об органических и критических эпохах, об эпохах ночных и дневных, сакральных и секулярных. Нам суждено жить в историческое время смены эпох. Старый мир новой истории (он-то, именующий себя все еще по старой привычке «новым», состарился и одряхлел) кончается и разлагается, и нарождается неведомый еще новый мир. И замечательно, что этот конец старого мира и нарождение нового одним представляется «революцией», другим же представляется «реакцией». «Революционность» и «реакционность» так сейчас перепутались, что потерялась всякая отчетливость в употреблении этих терминов. Эпоху нашу я условно обозначаю как конец новой истории и начало нового средневековья… По всем признакам мы выступили из дневной исторической эпохи и вступили в эпоху ночную. Это чувствуют наиболее чуткие люди. Плохо ли это, мрачно ли это, пессимистично ли это? Самая постановка такого рода вопросов совершенно неверна, глубоко антиисторична, слишком рационалистична. Падают ложные покровы, и обнажается добро и зло. Ночь не менее хороша, чем день, не менее божественна, в ночи ярко светят звезды, в ночи бывают откровения, которых не знает день… Переход к новому средневековью, как некогда переход к старому средневековью, сопровождается приметным разложением старых обществ и неприметным сложением новых. Старый, устойчивый, сложившийся общественный и культурный космос опрокидывается силами хаотическими и варварскими. («Новое средневековье» Н. А. Бердяева)
Стоит ли России стремиться быть частью Европы?
А. И. Герцен (грустно) : Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, хотим другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить… Мы вообще знаем Европу школьно, литературно, то есть мы не знаем ее, а судим a livre ouvert (спонтанно, без подготовки; буквально «[переводя] с листа». — Прим. ред. ) по книжкам и картинкам… Наше классическое незнание западного человека наделает много бед, из него еще разовьются племенные ненависти и кровавые столкновения… Поживши год, другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они гораздо ниже его. («Былое и думы» А. И. Герцена)
Будет ли у нас когда-нибудь взаимопонимание с Западом?
Ф. М. Достоевский: Вновь сшибка с Европой (о, не война еще: до войны нам, то есть России, говорят, все еще далеко), вновь на сцене бесконечный Восточный вопрос, вновь на русских смотрят в Европе недоверчиво… Но, однако, чего нам гоняться за доверчивостью Европы? Разве смотрела когда Европа на русских доверчиво, разве может она смотреть на нас когда-нибудь доверчиво и не враждебно? («Дневник писателя» Ф. М. Достоевского)
И. А. Ильин: Европе не нужна правда о России, ей нужна удобная о ней неправда. Европейцам нужна дурная Россия: варварская, чтобы «цивилизовать ее по-своему», угрожающая своими размерами, чтобы ее можно было расчленить, реакционная, чтобы оправдать для нее революцию и требовать для нее республики, религиозно-разлагающаяся, чтобы вломиться в нее с пропагандой реформации или католицизма, хозяйственно-несостоятельная, чтобы претендовать на ее сырье или, по крайней мере, на выгодные торговые договоры и концессии. («Мировая политика русских государей» И. А. Ильина)
Но эта же неприязнь существует не только в Европе. Внутри страны тоже есть те, кто презирает «Рашку».
Ф. И. Тютчев: Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей… Раньше они говорили нам, и они действительно так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т. д. и т. п., что именно бесспорным наличием в ней всего этого им и нравится Европа… А теперь что мы видим? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, все более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. Они никогда так сильно не ненавидели прежние установления, как ненавидят современные направления общественной мысли в России. Что же касается Европы, то, как мы видим, никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивилизации нисколько не уменьшили их расположения к ней… Словом, в явлении, о котором я говорю, о принципах как таковых не может быть и речи, действуют только инстинкты… (Письмо Ф. И. Тютчева к А. Ф. Аксаковой от 20 сентября 1867 года)
(Все уважительно замолкают. Толстой и Горький утирают слезы.)
В чем отличие русского от европейца?
П. Я. Чаадаев: Народы Европы имеют общее лицо, семейное сходство. Несмотря на их разделение на ветви латинскую и тевтонскую, на южан и северян, существует общая связь, соединяющая их всех в одно целое, явная для всякого, кто углубится в их общую историю… А каждый отдельный человек обладает своей долей общего наследства, без труда, без напряжения подбирает в жизни рассеянные в обществе знания и пользуется ими. Хотите знать, что это за мысли? Это мысли о долге, справедливости, праве, порядке… Вот она, атмосфера Запада, это нечто большее, чем история или психология, это физиология европейского человека. А что вы видите у нас? …Всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики… Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави Бог… Массы подчиняются известным силам, стоящим у вершин общества. Непосредственно они не размышляют. Среди них имеется известное число мыслителей, которые за них думают, которые дают толчок коллективному сознанию нации и приводят ее в движение. Незначительное меньшинство мыслит, остальная часть чувствует, в итоге же получается общее движение. А теперь, я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?
А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы — воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара. Не эту роль предоставило нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем благодетельном воздействии на человеческий разум, оно предоставило нас всецело самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего н дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили… В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его. («Философические письма» П. Я. Чаадаева)
Достоевский, член кружка петрашевцев, переживший инсценировку казни, каторгу и службу рядовым, в итоге был помилован и стал глубоко религиозным патриотом, то есть «ренегатом» в терминологии революционеров.
Чехов, внук крепостных, имевший украинские корни и при переписи населения указавший национальность «малоросс», русский драматург, сравнимый по популярности в мире с Шекспиром, начинал с юмористических рассказов в журнале «Стрекоза» и подорвал здоровье при подготовке книги «Остров Сахалин», рассказывающей о каторжанах.
Андреев, один из самых заметных литераторов Серебряного века, родоначальник русского экспрессионизма, укрывавший во время революции 1905 года членов РСДРП, затем сам нашел приют на вилле Горького на Капри, а после 1917-го оказался в эмиграции в Финляндии, где написал проникнутые ненавистью к большевикам сочинения «Дневник сатаны» и «SOS».
Герцен, диссидент-либерал и эмигрант, отчаялся в западной культуре и поверил в великую будущность русской общины.
Устрялов, философ, член партии кадетов, в эмиграции ставший идеологом сменовеховства, национал-большевизма и апологетом Сталина, вернулся в СССР и был расстрелян в 1937-м.
Ильин, еще один философ, высланный по приказу Ленина из СССР на том же пароходе, был последовательным критиком большевистского режима, сторонником Белого движения и идеологом Российского общевоинского союза, созданного в эмиграции.
Тютчев, поэт-романтик, крупный дипломат, глава Цензурного комитета, запретил распространение в России «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса.
Есенин, один из новокрестьянских поэтов, впоследствии член группы имажинистов, служивший во время Первой мировой санитаром в Царскосельском госпитале и выступавший со стихами перед императрицей Александрой Федоровной и ее дочерьми, к концу своей короткой жизни стал одним из самых известных советских литераторов.
Толстой, писатель, религиозный философ, просветитель. В отличие от большинства современников, заявлял, что народ бесконечно выше культурных классов и что господам надо заимствовать высоты духа у мужиков. Пытался перенести свои идеи на свою собственную жизнь. Разочаровался в западном устройстве образования, считал, что прогресс лишь помогает угнетению. В школах, которые строил, преподавал по своей методе индивидуального подхода и свободы. Критиковал государство, основанное на принуждении и насилии, порвал с церковью. Некоторые его произведения были запрещены как светской так и духовной цензурой, синодальное определение, вынесенное в отношении него, до сих пор не отменено.
Мережковский, символист и религиозный мистик, близкий к эсерам, встретил октябрь 1917-го как разгул «хамства» и воцарение «народа-Зверя», смертельно опасного для всей мировой цивилизации.
Чаадаев, философ, публицист, общепризнанный денди, друг Пушкина и декабристов, принял на себя роль пророка в своем отечестве еще при жизни. Исповедовал двойственную доктрину: критиковал Россию за отсталость, отлученность от западного мира, за то, что она всегда была и остается олицетворением произвола отдельного человека. Но в то же время верил в особый путь Родины, в ее исключительность. Был объявлен сумасшедшим, труды запрещены.
Маяковский, поэт, художник, анархист и бунтарь. Чувствовал себя пролетарским поэтом, и негодовал, что его аттестовали как попутчика советской власти. Еще до 1917 года вышел из партии и не вступил обратно, но продолжал настаивать на необходимости мировой революции и революции духа. Последние стихи демонстрируют полную лояльность властям, но власти, похоже, не очень поверили.
А вы, Владимир Владимирович, что думаете по этому поводу?
В. В. Маяковский:
Лошадь сказала, взглянув на верблюда:
«Какая гигантская лошадь-ублюдок».
Верблюд же вскричал:
«Да лошадь разве ты?!
Ты просто-напросто —
верблюд недоразвитый».
И знал лишь бог седобородый,
что это — животные разной породы.…
(«Стихи о разнице вкусов» В. В. Маяковского)
Василий Васильевич, а вы придерживаетесь такого же мнения?»
В. В. Розанов: Посмотришь на русского человека острым глазком… Посмотрит он на тебя острым глазком… И все понятно. И не надо никаких слов. Вот чего нельзя с иностранцем. … («Уединенное» В. В. Розанова)
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАРОД
Начнут ли интеллектуалы и «простые» люди когда-нибудь понимать друг друга?
М. О. Гершензон: Сказать, что народ нас не понимает и ненавидит, значит не все сказать. Может быть, он не понимает нас потому, что мы образованнее его? Может быть, ненавидит за то, что мы не работаем физически и живем в роскоши? Нет, он, главное, не видит в нас людей: мы для него человекоподобные чудовища, люди без Бога в душе, — и он прав, потому что как электричество обнаруживается при соприкосновении двух противоположно наэлектризованных тел, так Божья искра появляется только в точке смыкания личной воли с сознанием, которые у нас совсем не смыкались. И оттого народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит нас… Мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной. («Творческое самосознание» М. О. Гершензона)
Какова роль интеллигенции в обществе в наше время?
Н. А. Бердяев: Русские люди очень любят обсуждать вопрос о том, реакционно ли что-либо или нет. Им даже это представляется главной задачей всякой критики. Это есть старинный обычай русской мыслящей интеллигенции. Можно было надеяться, что революция отучит от этой дурной привычки. Но нет, и до сих пор у нас ведут бесконечные и нудные споры о том, что реакционно и что прогрессивно, как будто не перевернулось все в мире вверх ногами, как будто бы старые интеллигентские критерии сохранили еще хоть какой-либо смысл. Попробуйте применить к эпохам всемирной истории ваши критерии реакционности или революционности, правости или левости. Тогда понятна станет вся смехотворность этих критериев, весь жалкий провинциализм мысли, протекающей в этих категориях. В эпоху падения античного мира и явления христианства «реакционно» было отстаивать начала античного просвещения и античной цивилизации и в высшей степени «прогрессивно» и даже «революционно» было отстаивать те духовные начала, которые потом восторжествовали в средневековой культуре. («Новое средневековье» Н. А. Бердяева)
Большие сомнения вызывает проходящая ныне реформа образования. Приведет ли она к увеличению числа действительно образованных людей?
Л. Н. Толстой (задумчиво): Народное образование всегда и везде представляло и представляет одно, непонятное для меня, явление. Народ хочет образования, и каждая отдельная личность бессознательно стремится к образованию. Более образованный класс людей — общества, правительства — стремится передать свои знания и образовать менее образованный класс народа. Казалось, такое совпадение потребностей должно было бы удовлетворить как образовывающий, так и образовывающийся класс. Но выходит наоборот. Народ постоянно противодействует тем усилиям, которые употребляет для его образования общество или правительство, как представители более образованного сословия, и усилия эти большею частью остаются безуспешными. («О народном образовании» Л. Н. Толстого)
(«О народном воспитании» А. С. Пушкина)
(Неожиданно возвращается Хармс.)
Д. А. Хармс (весело, с вызовом): А давайте поговорим о правилах жизни интеллигентного человека. Вот они: 1. Каждый день делай что-нибудь полезное. 2. Изучай и пользуй хатху и карму-йогу. 3. Ложись не позднее 2 час. ночи и вставай не позднее 12 час. дня, кроме экстренных случаев. 4. Каждое утро и каждый вечер делай гимнастику и обтирания. 5. П–р. 6. Проснувшись, сразу вставай, не поддавайся утренним размышлениям и желанию покурить. 7. Оставшись один, занимайся определенным делом. 8. Сократи число ночлежников и сам ночуй преимущественно дома. 9. Задумывай только возможное, но раз задуманное — исполняй. 10. Дорожи временем. (Дневниковые записи Д. А. Хармса за 1927 год)
Несколько пришедших эсэмэсок: «Будет ли когда-нибудь в России закон и порядок?», «Почему на улицах так грязно?», «Почему русские за границей так не любят других русских?», «Почему вокруг нас одни хамы?».
А. С. Пушкин: Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератор — я раздражен, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. (Письмо А. С. Пушкина к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года)
И когда все это закончится?
К. И. Чуковский: В России надо жить долго — интересно! (Воспоминания Л. Либединской о К. И. Чуковском «Литературу надо любить. »)
Рисунок: ВИТАЛИЙ ШЕПТУХИН
Пушкин довольно быстро прошел путь от оды «Вольность» и эпиграмм на Аракчеева и Александра I до стихотворения «Клеветникам России» и взглядов убежденного монархиста-консерватора.