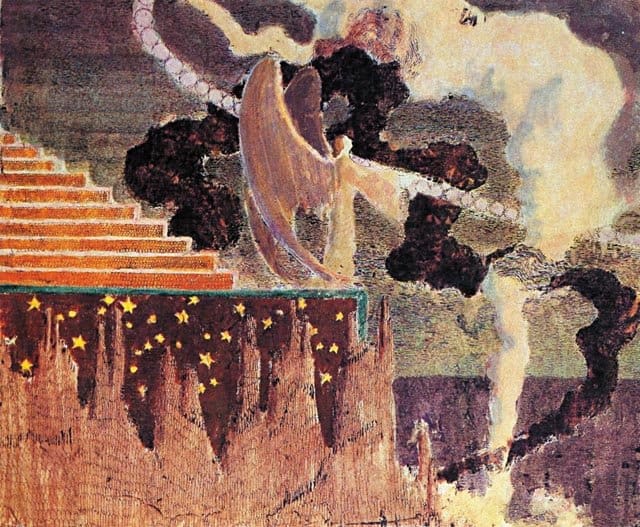что такое преисподняя в православии
Вопросы об аде и рае
На них отвечает кандидат богословия преподаватель СПбДАиС иеромонах Кирилл (Зинковский)
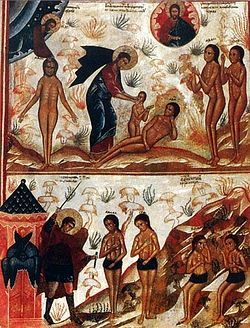 |
— 90 процентов всех верующих представляют ад и рай именно такими, как их описывал Данте: совершенно материальными. Подобные представления нередко можно встретить и в православной литературе, предназначенной «для широкого читателя». До какой степени такие представления допустимы?
— Прежде всего нужно сказать, что грубые представления средневекового католического Запада ни в коей мере не соответствуют святоотеческому православному Преданию. Святые Отцы Церкви, размышляя о рае и аде, всегда основывали свои рассуждения на безмерной благости Божией и никогда не смаковали в подробностях (как это мы находим у Данте) ни мучения ада, ни блаженства рая. Рай и ад никогда не представлялись им грубо материальными. Не случайно прп. Симеон Новый Богослов говорит: «Ад и тамошние муки всяк представляет так, как желает, но каковы они, никто решительно не знает». Точно так же, по мысли прп. Ефрема Сирина, «сокровенное лоно рая недоступно созерцанию». Рассуждая о тайнах будущего века, Отцы Церкви учат согласно с Евангелием, что геенна уготована не для людей, а для падших и укоренившихся во зле духов, а Святитель Иоанн Златоуст отмечает воспитательное значение, которое имеет ад для человека: «Мы находимся в таком бедственном положении, что, не будь страха геенны, мы, пожалуй, и не подумали бы совершить что-нибудь доброе». Современный греческий богослов митрополит Иерофей Влахос вообще говорит об отсутствии в учении Отцов понятия о тварном аде — таким образом, он решительно отрицает те грубые представления, которыми полно франко-латинское предание. Православные Отцы упоминают и о тонких, духовных, «внешних» рае и аде, но основное внимание они предлагают обратить на «внутреннее» происхождение того состояния, что ждёт человека в будущем веке. Духовные рай и ад — это не награда и наказание со стороны Бога, а, соответственно, здравие и болезнь человеческой души, особенно ясно проявляющиеся в ином бытии. Души здоровые, то есть потрудившиеся над очищением от страстей, испытывают на себе просвещающее действие Божественной благодати, а души больные, то есть не соизволившие подъять труд очищения, — действие опаляющее. С другой стороны, мы должны понимать, что, кроме Бога, никто и ничто не может претендовать на совершенную невещественность: ангелы и души, конечно, обладают качественно отличной от видимого мира природой, но всё же они достаточно грубы по сравнению с абсолютным Духом Божиим. Поэтому их блаженство или страдания нельзя представлять чисто идеальными: они увязаны с их природным строем или нестроением.
— Всё-таки есть ли какая-то разница между тем раем, куда попадают праведники после смерти, Царствием Божиим и будущей, вечной жизнью после всеобщего воскресения?
— Очевидно, разница есть, так как, по мысли Святых Отцов, и блаженство, и мучение увеличатся после всеобщего воскресения, когда души праведников и грешников воссоединятся с их восстановленными из праха телами. Согласно Писанию, полноценный человек есть Богом созданное единство души и тела, поэтому разлучение их противоестественно: оно является одним из «оброков греха» и должно быть преодолено. Святые Отцы рассуждали, что само соединение, вхождение души в воскрешённое Богом тело будет уже началом усугублённых радости или страдания. Душа, соединяясь со своими телесными членами, которыми она когда-то творила добро или зло, будет сразу испытывать особые отраду или скорбь и даже отвращение.
— Об аде. Понятно, почему его называют «вечной мукой», но встречается и такое выражение, как «вечная смерть»… Что это? Небытие? Вообще, если всякая жизнь от Бога, то как могут существовать (пусть даже в вечной муке) те, кто отвергнут Богом?
— Вообще-то в Священном Писании нет выражения «вечная смерть», встречается сочетание «вторая смерть» (Деян. 20 и 21). Зато постоянно говорится о тайне «вечной жизни», «вечной славе» спасённых. Понятие «второй» или «вечной» смерти разъясняется у Святых Отцов. Так, поясняя её тайну, свт. Игнатий Брянчанинов отмечал, что «преисподние темницы представляют странное и страшное уничтожение жизни, при сохранении жизни». Это вечное прекращение личного общения с Богом будет главным страданием осуждённых. Свт. Григорий Палама так поясняет соединение внешних и внутренних мук: «при отъятии всякой благой надежды и при отчаянии во спасении невольное обличение и грызение совести плачем будет безмерно увеличивать надлежащую муку».
Даже в аду нельзя говорить о совершенном отсутствии Бога, Который наполняет Собой весь тварный мир, в то же время не смешиваясь с ним. «Аще сниду во ад, Ты тамо еси», — возглашает богодухновенный Давид. Однако прп. Максим Исповедник говорит о различии благодати бытия и благобытия. Очевидно, что в аду бытие сохраняется, а благобытия быть не может. Происходит таинственное истощание всякого блага, что и может быть названо духовной смертью. Самого дара бытия не может отречься созданное Богом творение, а присутствие Творца становится мучительным для отрекшихся от бытия с Ним, в Нём и по Его законам.
— Почему Церковь говорит о двух судах: частном, случающемся с человеком непосредственно после смерти, и всеобщем, Страшном? Разве не достаточно одного?
— Душа, попадая в загробный мир, понимает со всей отчётливостью, что не может быть согласия между добром и злом, между Богом и сатаной. Пред лицом Божественного Света человеческая душа видит сама себя и ясно осознаёт соотношение света и тьмы в себе. Это и есть начало так называемого частного суда, в котором, можно сказать, человек сам себя судит и оценивает. А окончательный, последний, Страшный суд связан уже со Вторым пришествием Спасителя и окончательными судьбами мира и человека. Этот суд более таинственен, он учитывает как ходатайство Церкви о своих чадах, особенно через безкровную литургическую жертву, приносимую в ходе истории, так и глубинное всеведение Божие о каждом из Его творений и окончательное определение всякой свободной личности в своём отношении к Богу, когда Он явится перед лицом всех и каждого.
— В нашей жизни люди, отрицающие чью-то любовь — Божескую ли, человеческую ли, — живут очень хорошо: они, как говорится, не грузят себя лишними проблемами. Почему же после смерти, отрицая Божескую любовь, они будут мучиться? Другими словами: если человек сам, по своей воле, по своему вкусу выбрал путь противления Богу, почему он от этого будет страдать?
— Страдание человека, отвергшего Бога и Божественную любовь, отвергшего христианское самопожертвование, будет заключаться в том, что ему откроется вся бесконечная красота Бога, который есть Любовь. Откроется ему и уродство собственного эгоистического бытия. До конца осознав истинное положение вещей, человек-эгоист неизбежно ощутит страдание — так страдает уродец и предатель, оказавшийся в обществе благородных и прекрасных героев. «Мучимые в геенне поражаются бичом любви! И как горько и жёстко это мучение любви!» — так зрит адское мучение бесплодного раскаяния прп. Исаак Сирин. При этом надо подчеркнуть, что самолюбивая гордость, в которой закоснеют обитатели ада, не позволит им признать свою неправоту и уродливость выбранного ими пути, несмотря на его абсурдность. Цель и смысл всякого пути более всего очевидны в его конце, как качество плода понятно при его созревании, а так как ад есть конец и результат богоборческого выбора, то в нём и станут ясны как бытийные основы, так и горькие последствия гордого и нераскаянного противления Творцу.
— Рассуждая по-человечески, не все люди замечательно хороши и не все беспросветно злы. Святых и злодеев мало, основная масса — серая: и добрая, и злая (а может быть, вернее: ни добрая, ни злая). Такое впечатление, что мы не дотягиваем до рая, но и адские мучения — это в нашем случае слишком жестоко. Почему Церковь не говорит ни о каком промежуточном состоянии?
— Опасно мечтать о получении в будущей жизни эдакого лёгкого, среднего местечка, ради которого не нужно особо напрягать свою волю. Человек и так слишком расслаблен духовно. Святые Отцы говорят о разных обителях в раю и аду, но тем не менее ясно свидетельствуют о чётком разделе на Суде Божием, которого никому не избежать. Наверное, многие грехи земной жизни человеческой условно можно назвать «малыми», оправдать слабостью людской. Тем не менее тайна Божиего суда состоит в том, что этот суд всё-таки будет, хотя единственным желанием Бога является общее спасение. Господь «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4). Строго говоря, мы должны бояться не столько наказания внешнего, сколько наказания внутреннего, не ада как окончательного осуждения, а даже малого оскорбления благости Божией. У старца Паисия Афонского есть мысль, что не многие попадут в ад, но даже если мы избежим его, каково будет нам предстать перед Лицом Божиим с неочищенной совестью? Вот в чём должна быть главная обеспокоенность христианина.
Кроме того, важно понимать, что при вступлении в духовный мир в душе человека происходит молниеносная борьба между живущими в ней тьмой и светом. И непонятно, каков будет результат этой схватки несовместимых сил, обнаживших свою суть, скрытую до смертного исхода под «завесой плоти». Само это внутреннее противостояние уже мучительно для их носителя, а насколько удушлива победа внутренней тьмы над светом, вообще трудно говорить.
— И ещё о «малом грехе». Неужели можно попасть в ад за то, что съел котлету в пост? За то, что курил? За то, что изредка позволял себе некие не вполне пристойные мысли (не дела)? Словом, за то, что не был затянут в струнку каждую секунду своей жизни, а порой позволял себе «немного расслабиться» — по человеческим меркам вполне простительно?
— Дело не в кажущейся жестокости Бога, Который якобы готов послать в геенну за малую человеческую слабость, а в таинственном накоплении силы греха в душе. Ведь «малый» грех хоть и «мал», но совершается, как правило, многократно. Как песок, состоящий из мелких песчинок, может весить не менее большого камня, так и маленький грех набирает силу и вес с течением времени и может тяготить душу не менее «большого» греха, совершённого один раз. Кроме того, очень часто в нашей жизни расслабление «в малом» незаметно подводит к большим и очень серьёзным грехам. Не случайно ведь и Господь сказал: «. верный в малом и во многом верен» (Лк.16:10). Излишние напряжённость и мелочность зачастую даже вредят нашей духовной жизни и к Богу не приближают, но требовательность в отношении к себе, к нашей духовной жизни, в нашем отношении к ближним и к Самому Господу для христианина естественны и обязательны.
Как выглядит настоящий ад в реальности – что такое 9 кругов ада и что говорит Библия
9 кругов ада, что это на самом деле
Религиозные убеждения гласят — ад это место в которое попадают грешники дабы нести мучения. Об описании ада, практически все религии сходятся. В каждой из них описывается суд на котором взвешиваются душевные поступки.
В чем заключается ад в разных верованиях:
Принято считать, что ад это место расположена ближе к земному ядру.
Разделен он на 9 кругов, иначе можно сказать этажей и чем ниже этаж тем больше мучаются души. В древние времена верили, что извержение вулканов — это доказательство нахождения под землей ада, а кратеры — это вход в него.
По Данте в аду находятся следующие круги:
Люцифер в аду
Как уже было сказано, владыка ада находится на самом последнем кругу. А как выглядит дьявол в аду? Известно, что после падения, самый красивый ангел потерял свою привлекательность. Его наказали рогами, лицом со шрамами на лице, крыльями.
Однако часто упоминается и другой облик. Его внешность ассоциируют с инфернальным козлом. У него устрашающий вид, голову венчают огромные рога, крепкие челюсти и желтые глаза.
Возможно ответу на вопрос как выглядит Люцифер в аду мы обязаны христианству. Именно здесь он приобрел внешности бога-сатира. В его описании есть большие крылья, копыта и рога. Данте описывал дьявола как чудовище с несколькими пастями. В своем кругу ада он вечно мучает самых больших предателей.
Встретить Люцифера в виде козла можно на фресках или иконах. На них он восседает в центре, а души грешников его окружают.
Ад в реальности
Существует много фото как выглядит ад и рай, но наверняка точного описания никто не даст. Однако в истории были случаи, когда люди после состояния клинической смерти утверждали, что побывали в страшном месте.
Религии сходятся в том, что люди не просто тело. Душа покидает его и продолжает существовать в другом мире. В зависимости от того, как человек прожил свою жизнь, его душа отправляется в светлое место или в преисподнюю.
Это несколько примеров того, как выглядит ад в реальной жизни по описанию тех, кто там побывал:
Описание ада в религиях
В разных религиях ад описан по своему. Например изучая информацию о том, как выглядит ад по библии можно понять, что он описан как что-то невидимое и подземное. Согласно церковным преданиям после смерти с 9 по 40 день душу знакомят с порядками в аду и показывают, что его ждет если он окажется грешным на суде божьем.
Первое описание ада дает пророк Исаия. Но в этом отрывке ад показан не как место в котором наказывают. Его описывают как склад с ветошью, но в этом случае вместо ветоши тут находятся люди.
Как выглядит ад, ислам описывает иначе. В Кур’ане сказано, что ад это огромное, черное и отвратительное место в котором зловоние и страшные звуки. Неверующих туда бросают как дрова в топку. Каждый, кто туда попадет, будет страдать от сжигающего огня, скорпионов, змей и холода. В этом месте мучаются не только душой, но и телом и страданиям нет конца, перерыва или привыкания.
Заключение
Не столь важно является ли ад порождением нашего сознания или это реальный потусторонний мир. Личное дело каждого, воспринять его как догму религиозного характера или как философское определение. Однако описание явно дает понять, что именно ждет грешников в этом месте после смерти.
Смотрите также видео с рассказами людей, побывавших в аду:
Рай и ад. Что знает о них христианин?
Приблизительное время чтения: 13 мин.
Говорить о рае трудно по нескольким причинам. Одна из них — в нашем обычном языке нет подходящих слов, а райского языка мы не знаем. У нас есть слова для столов и стульев, компьютеров и телефонов, лестниц и лифтов — предметов, с которыми мы постоянно имеем дело. Но рай выходит за пределы нашего опыта; нам трудно говорить о нем, как, например, слепорожденным трудно говорить о цвете, а младенцам в утробе (если бы они могли говорить) было бы трудно рассуждать о мире, ожидающем их после родов. Мы верим в то, что нам предстоит прозреть, родиться в другую жизнь, но нам трудно понять, какой мир нас ожидает. Но имеет ли в таком случае смысл вообще начинать этот разговор? Да. Нельзя сказать, что мы не знаем вообще ничего — и Писание, и Предание говорят нам о рае, и мы должны обратить внимание на эти слова и постараться их понять. Когда речь идет о духовных реальностях, язык неизбежно становится образным, метафорическим; и Писание говорит о рае, используя знакомые нам образы.
Дом, Сад, Город, Царство, Брачный Пир
У нас слово «метафора» часто ассоциируется с чем-то неконкретным и малореальным. На самом деле, речь идет о вещах в высшей степени конкретных и реальных. Вы не сможете объяснить африканцу, на что похож снег, не прибегая к иносказаниям, но вы-то (в отличие от вашего собеседника) знаете, что снег абсолютно реален, вы помните, как он тает в руках и хрустит под ногами. Рай абсолютно реален, пóдлинен, несомненен — более реален, чем тот мир, в котором мы живем сейчас — но мы можем говорить о нем только иносказательно. Различные метафоры могут быть полезны потому, что в нашем мире, в нашем опыте есть отблески рая — мы живем в падшем мире, но не в аду, и те добрые и хорошие вещи, которые мы знаем, могут служить нам указателями.
Ибо знаем, — говорит апостол, — что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище (2 Кор 5:1,2). Рай — это наш родной дом; мы предназначены для него, а он — для нас. Мы не уходим в далекую страну; напротив, мы возвращаемся домой. У Сергея Есенина есть известные строчки: «Если крикнет рать святая: / “Кинь ты Русь, живи в раю!” / Я скажу: “Не надо рая, / дайте родину мою”». Может быть, это великая поэзия, но это ошибочное представление о рае. Рай и есть наша подлинная Родина, и то, что есть святого в святой Руси, несет в себе отсветы рая, на рай указывает и в раю обязательно будет. Можно вспомнить, что на другом конце христианской Европы, в кельтском мире, святые места, такие, как знаменитый монастырь Айона, назывались «тонкими» — местами, где небеса «просвечивают» сквозь земной ландшафт — для тех, кто имеет глаза их увидеть. Красота мироздания — как и красота Церкви — помогает нам, хотя и «гадательно, как через тусклое стекло», увидеть отсветы рая.
Писание называет рай городом — небесным Иерусалимом. Надо сказать, что «город» в библейские времена не был похож на современный мегаполис, где люди, даже стиснутые в вагоне метро, остаются чужими друг другу. Город был организмом, единством, в котором люди были связаны между собой узами взаимной верности, общей памятью и общей надеждой. Спасенные, как говорит пророк, вписаны в книгу для житья в Иерусалиме (Ис 4:3). Вступая в Церковь, мы обретаем небесное подданство; у нас есть родной город, где, как говорит апостол, мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу (Еф 2:19).
Другой образ рая — это сад. Персидское слово «парадиз», вошедшее во многие языки для обозначения рая, первоначально и означало «огороженный со всех сторон сад». Сад полон растений, птиц, и нередко — прирученных животных. Сад — образ, говорящий о природе. Поэты, художники и композиторы всегда пытались передать чувство изумленного благоговения перед красотой и величием природного мира. Как сказал некто, пытаясь передать свои ощущения от посещения одного древнего собора, «это такое место, где атеист чувствует себя неловко». Природа — это огромный собор, и когда мы входим под своды зимнего леса, мы понимаем, что мы — в храме. Красота природы указывает на красоту за ее пределами, как сказал один человек, описывая открывшийся ему вид, «это как небеса — для тех, кто в небеса верит». Но в природе — какой мы видим ее сейчас, в нашем падшем мире — есть не только красота, но и угроза, паразиты и жала, клыки и когти. Хуже того, человек в своем отношении к природе чаще является хищником и грабителем, чем садовником. Но Сад — это не дикий лес, куда охотник входит, чтобы убивать или быть убитым. В Саду отношения между природой и человеком обретают гармонию. Как говорит об этом грядущем мире пророк Исайя, Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море (Ис 11:6—9).
Другой образ рая — это образ Царства. В наше время «царство» часто понимают как «страну», «территорию». В Евангельские времена речь шла о другом — о владычестве. Мы принадлежим к Царству Божию, если наш Царь — Христос. Как говорит Он сам, Царствие Божие внутрь вас есть (Лк 17:21). Это реальность, в которой Христос является Владыкой и законодателем, реальность, в которой правит Его любовь.
Христос говорит о рае как о свадебном пире. Для современного читателя Писания бывает трудно понять значение этих двух образов — пира и брака. Начнем с пира. В Палестине I века люди совсем по-другому воспринимали ценность пищи; они ели умеренно — часто вынужденно, из-за нехватки еды, иногда добровольно, принимая на себя пост. Сейчас, когда еда продается на каждом углу, мы утратили сознание ее ценности, и только церковные посты могут вернуть нам понимание того, что такое пир, радостное принятие изобилия Божиих даров.
Но пища имела еще одну, утраченную в современном обществе, функцию. Сегодня мы живем в культуре фаст-фуда, часто едим в одиночестве или на ходу, и нам нет никакого дела до человека, с которым мы случайно разделили столик в кафе быстрого обслуживания. Но для людей того времени есть с кем-то вместе было глубочайшим проявлением человеческого общения и общности. Нечто подобное сохранилось и в наше время, когда семья собирается за одним столом. Мы все, собравшиеся за столом, — родные или близкие друзья, разделяем не только пищу, но и жизнь друг друга. Пир был противоположностью не только голоду, но и одиночеству, он утолял потребность не только в еде, но и в человеческом братстве.
Это особенно относилось к свадебному пиру, когда любовь юноши и девушки соединяла не только их, но и их семьи — люди становились родными друг другу. Брак был проявлением того, что на библейском иврите называлось «хесед» — верной, неизменной любовью. Смутное томление первой любви, ожидание чего-то великого осуществлялось, когда влюбленные становились супругами, создавали семью. Счастливая семья, полная любви и заботы, — образ рая; близость и понимание, существующее между родными людьми, являет собой образ — пусть несовершенный и поврежденный — той любви, которая будет воздухом и светом будущего века.
Можно голодать и жаждать не только пищи и питья, но и любви, правды, красоты, смысла. Сам Господь использует этот образ жажды и голода, когда говорит Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Мф 5:6). В Раю будет утолена глубочайшая жажда человеческого сердца — мы придем к самому Источнику всякого добра, красоты и истины, чтобы никогда больше не покинуть Его.
Ибо они утешатся
Рай — место утешения; Лазарь, тяжко страдавший в земной жизни, утешается в раю; Господь обещает утешение плачущим, а Откровение Иоанна говорит, что отрет Бог всякую слезу с очей их (Откр 21:4). Это учение было (и остается) предметом особенно ожесточенных нападок: одни говорят, что люди просто придумали рай, чтобы как-то утешить себя перед лицом боли, голода, холода и невыносимой жестокости окружающего мира; другие — что эта выдумка была вполне сознательной попыткой отвлечь трудящихся от борьбы за улучшение своего положения на земле.
Святой апостол Петр говорит о том, что как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете (1 Петр 4:13). Страдания не просто останутся в прошлом — они обернутся славой и торжеством. Ужасные раны, покрывающие тела мучеников, преобразятся в знаки небесной славы; невыносимая скорбь обернется вечной радостью, семьи воссоединятся в одной великой семье, Отец которой — Бог. Оглядываясь на свой земной путь, спасенные будут видеть все — в том числе самые тяжкие и мучительные — дни своей жизни, и их особенно, залитыми тем небесным светом, который откроет им подлинный смысл всего. Бог обратит смертную тень в ясное утро (Ам 5:8) общего воскресения и в незаходимый день вечной жизни.
И никто преданный мерзости и лжи
Двери Рая широко распахнуты; нас всех настойчиво приглашают. И Писание, и Предание постоянно уверяют нас, что любой человек, каким бы грешным он ни был, может покаяться, уверовать и спастись. Первым в рай попал разбойник, распятый по правую руку от Господа.
Но что будет, если мы откажемся войти? Ответ очевиден и с точки зрения Писания, и с точки зрения здравого смысла: если мы откажемся войти в дверь, мы останемся за дверью, во тьме внешней. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни (Откр 21:27), — говорится в самом последнем стихе Библии. Рай, в который вошло бы что-то нечистое, рай, в котором была бы возможна мерзость и ложь, уже не был бы раем. Нам твердо обещано, что если мы предадимся Господу, Он очистит нас и введет в Его город.
Но мы можем упереться, не захотеть, возлюбить тьму, а не свет, более того, мы можем закоснеть в этом состоянии навсегда. Тогда — предупреждает Писание — мы останемся во тьме внешней. «Червь неумирающий» и «огонь неугасающий», о которых говорит Господь, могут рассматриваться как аллегории, а яркие образы средневековой иконографии — как обусловленные эпохой и культурой. Но в любом случае мы не можем отрицать — Господь настойчиво предупреждает нас о чем-то невыразимо ужасном.
Люди часто не хотят слышать этих предупреждений, а иногда и прямо их оспаривают: беспокоиться не о чем, Бог слишком благ, чтобы осудить и отвергнуть кого-либо. Их ошибка вовсе не в том, что они утверждают благость Божию; «Его же благость безмерна и человеколюбие неизреченно»— глубоко традиционная и ортодоксальная доктрина, провозглашаемая за каждой Литургией. Их ошибка в том, что они отрицают человеческую свободу. Бог настолько желает спасти каждого человека, что «в плоть облекся, был распят и погребен за нас, неблагодарных и злонравных». Но у человека есть подлинный, реальный выбор — он может сказать Богу «нет».
Как-то я видел документальный фильм о разделе Индии в конце сороковых годов (и происшедшей при этом массовой резне). Там было интервью с одним сикхом, уже глубоким стариком, который, любовно поглаживая кривую саблю, похвалялся, что тогда ни один мусульманин не ушел от него живым. Когда у него спросили, не сожалеет ли он о совершенных им убийствах, он ответил с негодованием: «И с чего это я должен сожалеть? Эти чертовы мусульмане вырезали половину нашего народа!»
Что будет с этой душой по ту сторону смерти? Как может войти в рай человек, который яростно настаивает на том, что он прав, и не думает раскаиваться в своих грехах? Где он окажется? Есть множество примеров того, как человеческая гордыня и злоба превращает землю в ад — во что она превратит вечность? Что любовь Божия может сделать для тех, кто окончательно избрал путь противления? Бог полагает «великую пропасть» между спасенными и погибшими, так что злодеи больше не могут причинять зла невинным. И Бог дает им столько познания истины, сколько они могут вместить — и это познание оборачивается для них страданием. На земле злодеи могут упиваться злом и получать извращенную радость от чужих мучений; в аду грех и зло оборачиваются тем, чем и должны — мýкой.
Но предупреждения об аде относятся не только к каким-то чужим нам людям из далекой страны, как этот сикх из приведенного выше примера. И не только к нераскаянным убийцам.
Существуют только два пути — восходящий или нисходящий, к Богу или от него. Можно возрастать в любви, познании и раскрытии своего данного Богом предназначения. Можно — в гордыне и враждебности. Мы неизбежно выбираем тот или другой путь, и, когда наш выбор умножится на вечность, он неизбежно приведет нас в то или другое место назначения.
Христианская жизнь — это не жизнь в страхе ада; мы полагаемся на нашего Спасителя в том, что Он может и хочет избавить нас от от такой участи. Напротив, христиане живут, «помышляя о горнем», и с сердечной надеждой ожидая вечного спасения. Но мы призваны помнить о реальности нашего выбора и его последствий — и помнить о нашей ответственности за себя и свои ближних.
Путь спасения
Разговор о рае и аде — отнюдь не отвлеченное теоретизирование. Мы несемся в то — или другое — место с ошеломляющей скоростью шестьдесят секунд в минуту, постоянно, днем и ночью, и не можем остановиться или хотя бы притормозить. Великий французский мыслитель Блез Паскаль чрезвычайно удивлялся тому, что людей беспокоит все что угодно, кроме их вечного спасения: «Тот самый человек, который проводит столько дней и ночей в досаде и отчаянии по поводу потери должности или какого-нибудь воображаемого оскорбления своей чести, — тот же самый человек знает, что со смертью теряет все, и это не беспокоит и не волнует его. Явление уродливое, что в одном и том же сердце, в одно и то же время обнаруживается такая чувствительность к самым малейшим вещам и такое равнодушие к самым важным». Самое важное в нашем жизненном пути — это где мы его завершим. Когда человек осознает это, он задается вопросом: «как мне спастись? Как мне достигнуть рая?»
И Писание дает ответ на этот вопрос: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой (Деян 16:31). Поверить — значит покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю, принять Крещение, приступать к Таинствам Церкви, как Он заповедал, искренне стремиться к соблюдению Его заповедей. Вера означает новую жизнь, возможно, отказ от чего-то, к чему мы привыкли, разрыв со старыми грехами и старыми взглядами. Но когда мы видим перед собой цель, когда свет, исходящий из рая, освещает наш путь, мы понимаем, как мало на самом деле от нас требуют, и как много мы обретем.
Материал проиллюстрирован картинами Микалоюса Чюрлениса